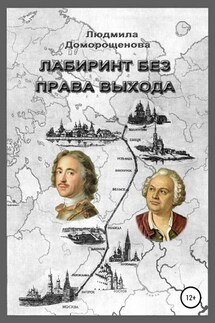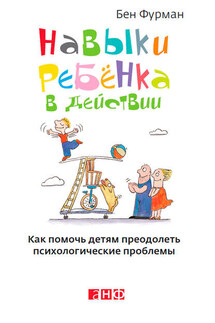Лабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова - страница 35
Широко известный учёный пользовался популярностью и в России. Русский царь Пётр I благоволил к нему и обращался по разным вопросам. По его распоряжению Вольфу, которого, по-видимому, прочили на пост вице-президента Петербургской АН, был послан проект этой организации. Но в России этого учёного ждали не как метафизика, а как математика, физика, техника, что, однако, для Вольфа было уже не столь актуально. К тому времени он стал известным философом, основоположником собственного научного направления – вольфианства (самым известным и последовательным вольфианцем в России был, кстати, Феофан Прокопович). Назначение не состоялось, но Х. Вольфа избрали почётным членом Петербургской Академии наук с пожизненной пенсией в 300 рублей в год; в списках её он числился профессором математики.
Именно к этому универсально образованному человеку, «мировому мудрецу», как звали Вольфа в Европе, и были отправлены русские студенты. Отец Г. Райзера, участвовавший в организации поездки как специалист по горному делу, писал: «Я весьма одобряю предложение отправить молодых людей предварительно в Марбург. Ведь так как они должны сделаться не простыми лишь пробирерами и рудокопами, а учёными химиками и металлургами, то почти необходимо, чтобы они сначала несколько освоились с философскими, математическими и словесными науками».
Обрадовало ли Вольфа оказанное ему доверие в деле подготовки будущих учёных-химиков из России? Как видно по одному из его писем в Петербургскую Академию наук, вопреки ожиданиям вольфианцев из России он не предполагал придавать занятиям русских студентов философско-энциклопедический характер. План образования студентов «за морем» был задуман Корфом и старшим Райзером (с участием, несомненно, Прокоповича) широко, но на деле знания давались не глубоко, без теоретической проработки. Вольф писал: «В своих письмах я сообщал, что означенные молодые люди, обучившись арифметике, геометрии и тригонометрии, в настоящее время слушают у меня механику. При этом я главным образом обращаю их внимание на то, что необходимо для понимания машин, так как, по моему мнению, цель их занятий должна заключаться не столько в изучении замысловатых теорий, на которые у них вряд ли и достанет времени, сколько в усвоении того, что им впредь будет полезно для правильного понимания рудокопных машин». Вот так, папаша Райзер: нечего губу раскатывать, хватит с вас и рудокопов!
Горный советник Райзер, отправляя сына в Германию, был уверен, что «Марбург – место, которое прославлено Вольфом, и нет никакого сомнения, что там, по его распоряжению, кроме давно поселившихся эмигрантов, есть способные лица по всем полезным наукам». Но и в этом он ошибался. Кроме Вольфа в крошечном Марбургском университете, где в то время учились всего 122 студента (в другие годы численность их доходила даже до 50 человек), работали обычные преподаватели. Не случайно на протяжении четырёхсот лет его существования (до середины 20 века) здесь из России побывал на учёбе, кроме трёх молодых людей, о которых мы ведём речь, только писатель и поэт Борис Пастернак. Летом 1912 года он изучал философию у главы марбургской неокантианской школы профессора Г. Когена.
В своей автобиографической повести «Охранная грамота» (1929) писатель оставил, кстати, очень интересные заметки о Марбурге: «Вдруг я понял, что пятилетнему шарканью Ломоносова по этим мостовым должен был предшествовать день, когда он входил в этот город впервые, с письмом к Лейбницеву ученику Христиану Вольфу, и никого ещё тут не знал. Мало сказать, что с того дня город не изменился. Надо знать, что таким же нежданно маленьким и древним мог он быть уже и для тех дней… Как и тогда, при Ломоносове, рассыпавшись у ног всем сизым кишением шиферных крыш, город походил на голубиную стаю, заворожённую на живом слёте к сменённой кормушке».