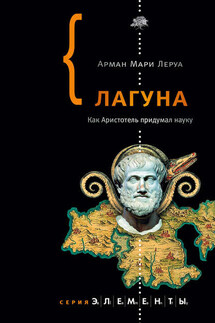Лагуна. Как Аристотель придумал науку - страница 20
В пособиях по гаданию также, вероятно, было немало сведений по этологии. “Откуда прорицатели взяли свою терминологию «совместимости» и «несовместимости»: враждующие животные «совместимые», а не враждующие друг с другом считаются «совместимыми»”. Далее Аристотель рассказывает, как орлы дерутся с сипами (а также змеями, поползнями и цаплями), осы-охотники и гекконы – с пауками, змеи – с хорьками, крапивники – с совами и т. д., и его описаниям жестокой борьбы в природе позавидовали бы даже дарвинисты. Там много сомнительной информации. Крапивники, жаворонки, дятлы и поползни, которые питаются яйцами других птиц, стали бы сюрпризом для орнитологов. И если во времена Аристотеля ослы враждовали с ящерицами, “потому что ящерица спит в их загоне и закрывает ослиные ноздри, так что ослы не могут поедать сено”, то в наши дни ослы могут спокойно отдыхать в компании ящериц, видимо, оставивших дурную привычку.
Стоило ли Аристотелю включать подобный материал в свои трактаты? Наверное, нет. Его чувство эмпирической реальности твердо, как у современного ученого, и маловероятно, что он использовал гадальные книги как источник сведений. Но перед тем как осудить Аристотеля, следует задуматься о трудностях, с которыми он сталкивался. Народную культуру пронизывала мифология, врачи имели слабое представление о человеческой анатомии, а крестьяне в изобилии поставляли неверные сведения о животных. Аристотель закладывал эмпирический фундамент собственной науки, и ему приходилось отсеивать домыслы.
У Аристотеля мы встречаем лишь намеки на преодоленные мифологические дебри. Он отрицает (по крайней мере – сомневается) правдивость рассказов (mythoi) о журавлях, которые как балласт проглатывают камни, и о том, что эти камни, будучи вытошненными, могут превращать вещество в золото, и о львицах, выбрасывающих матку во время родов, и о живших к западу от Греции лигийцах (лугиях), у которых 7 (вместо 12) пар ребер, и о головах, которые продолжают говорить, будучи отсеченными от тела. В III в. чепухой подобного сорта заполнял свои книги Элиан.
То, как Аристотель расправляется с вопросом об отрубленных головах, очень показательно. Он указывает: многие верят, будто отсеченные головы могут говорить, и цитируют при этом Гомера. И существует, по-видимому, заслуживающее доверие описание именно такого случая. В Карии (Анатолия) жрец культа Зевса Гоплосмия был обезглавлен. Голова назвала имя своего убийцы – некоего Керкида. Тот был схвачен и предан суду. Аристотель не комментирует ни судьбу этого человека, ни возможную судебную ошибку. Он ставит этот рассказ под сомнение, поскольку: 1) когда варвары рубят головы, то головы не говорят, 2) когда рубят головы животным, головы не издают никаких звуков, и поэтому и человеческие головы не должны издавать их, 3) речь требует дыхания легкими через трахею. Все это удивительно здраво. И мы не должны принимать такое здравомыслие как само собой разумеющееся.
Отсеченные головы могут не издавать звуков, но рыбы их, безусловно, издают. Аристотель говорит, что kokkis и lyra (оба морские петухи отряда скорпенообразные) издают похожие на хрюканье звуки, а khalkeus (солнечник) пищит. Затем он рассуждает, что раз у рыб нет легких, то эти звуки – не “голос”, какой бывает у птиц или млекопитающих. Скорее, этот звук вызван колебанием внутренностей, внутри которых оказался воздух