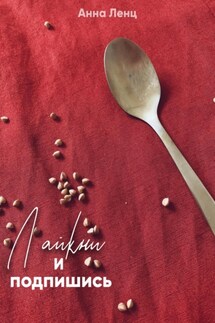Лайкни и подпишись - страница 17
Олины пальцы нащупывают через ткань мягкую складку кожи на бедре и сжимают. Жмут и жмут до побелевших костяшек, до онемения пальцев. Колючий от мороза ветер режет глаза до слез. Оля отнимает пальцы от складки и смахивает слезинку. Пульсирующая боль в ноге действует отрезвляюще, как свежий воздух в жаркий день, Олю тут же отпускает тревога. Хорошо.
– Я первая, я первая! – две девчушки погодки наперегонки бегут к качелям. Одна – повыше и, наверное, постарше, добегает первой и ложится на качель животом. Ноги ее бегут по земле – вперед, назад. Светлые волосы, точно нити паутинки, колышутся над мерзлой почвой.
Вторая плюхается на сидушку и уже с хохотом летит вверх, лицом в небо. Крыши прыгают ей на встречу, почти падают на голову, опрокидывается небо и лицо отца – смеющееся, молодое – перевернутый треугольник.
Оля оборачивается, готовясь нести оборону, отстаивать свою позицию – она и Кирюша не уйдут, хотите качайтесь рядом, хотите – уходите сами, Оле все равно!
Но тут же замирает в растерянности, ведь это он!
Он – понимает Оля.
Кирюша, напуганный смехом и криками, заводит свою протяжную песнь. Он обхватывает колени руками и качается из стороны в сторону – как буек на волнах.
– Кирюша, – Оля щелкает языком: цок, цок, цок, – иди ко мне, давай.
Кирюша не идет, и Оля сама берет его на руки, но Кирюша молотит ногами и ручками по животу, по плечам, по лицу.
Оля не глядит на девчонок погод, и качающего их качели отца, Оля идет быстро, почти бежит в спасительную тьму подъезда, она не видит дороги из-за Кирюшиных лупящих воздух рук. Ощупью она находит перила и, точно слепая, взбирается по ступеням, пальцами очертив все изгибы и выбоинки облупившейся краски.
Это был он. Увидел ли Кирюшу? Понял ли?
Сердце Оли колотится так, что и Кирюша, должно быть, чувствует сквозь ее пальто и свой комбинезончик. Задыхаясь, Оля заходит в квартиру, тут же ставит Кирюшу на пол и рядом садится сама.
Кирюша воет и дергается, бьет пол ладошками, он плачет без слез, только у-у – монотонная нота горя. Он стихает сам, и тогда бабушка помогает ему раздеться, а Оля сидит – в пальто и шапочке, глупой, с помпоном, не снимает ни ее ни сапог, и не слышит Кирюшу, и мать.
Потому что там, во дворе – это был он.
Оля никогда не видела его вот так – близко, почти нос к носу без разделяющих окна метров ночной тьмы.
– Ты чего расселась то Оль? Случилось что? – шепчет мама. Кирюша едва успел утихнуть.
Оля елозит каблуками по луже натаявшего грязного снега и смотрит в стену.
– О-ля? – повторяет мама по слогам. – Ну ты чего пугаешь меня, скорую может вызвать? Плохо тебе?
Оля кивает, затем сразу трясет головой.
– Мам, я красивая? – спрашивает вдруг Оля.
Оля росла в приличной семье. Отец – ударник труда, строитель, строил дворцы культуры. Мать – библиотекарь. Там и прошло Олино детство – в пыли библиотечных стеллажей, с бесконечным формуляром, исписанным синими размашистыми именами классиков и не очень – все маминой рукой.
В их семье не принято было говорить о внешности, даже как-то стыдно. Оля не смотрелась подолгу в зеркало, не наряжалась, не красилась. Мамин строгий пучок и сжатые в нитку губы, грубые мозолистые руки отца с кантиком синеватой грязи под ногтями – все это научило Олю любить труд и не любить себя. Как тело. Как женщину.
В книгах писали – главное душа. А красота, она в мелочах: в завитке волос, в ямочке на щеке, в родинке на сгибе локтя. Красота она в глубине в лиричности, в томных вздохах и длинных письмах. «Дорогой Андрей, пишу вам с папенькиной дачи, этим летом мы отдыхаем всей семьей на наших 6-ти сотках и копаем картошку. Папенька говорит, от этого улучшается самочувствие и крепнет организм…»