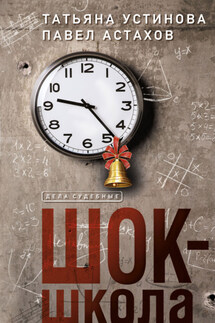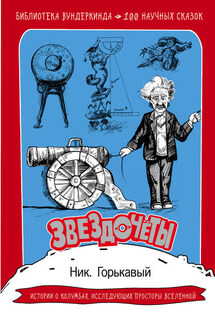Лёнька. Украденное детство - страница 13
– Слышь, Ефимыч, а ребятишкам в школу как же? – поинтересовалась какая-то женщина. Судя по высокому голосу – похоже Таньки Полевой мать. Дети действительно вынуждены были ходить на уроки через лес в другую деревню.
– Ты, Манька, погоди со своей школой. Мои девки – тоже школьницы, но про то пока никаких распоряжений нет от германской власти. Да и до школы еще полтора месяца. Как решат – сообщат. Думаю, что будет школа, будет. Я буду добиваться, обещаю.
– Э! Председатель, а как насчет скотины? – вдруг вступил Прохор. Он хоть и исполнял обязанности конюха, но в деревне оставались в его ведении всего две лошади да жеребец. Остальная часть конюшни на двадцать четыре отдельных стойла, построенная когда-то еще при царе до революции, пустовала, была запущена, завалена мусором и навозом.
– Михалыч, скотина… – Он сделал паузу и продолжил: – Скотина остается при вас. Пока других указаний по частным дворам не было. Весь колхозный скот уже переписан и пересчитан и считается теперь собственностью Германии и их фюрера.
– Этого лупоглазого с челочкой и в усиках, что на картине? – Нюрка Денисова указала на портрет Гитлера, который в это время заносили два рядовых из взвода охраны в новый пункт комендатуры, до сего дня бывший хатой тетки Фроськи.
– Этого, этого самого, – поморщился Бубнов. Солдаты прошли в дом и повесили портрет над окном горницы. Он был такой большой, что нижней частью почти на треть перекрыл оконную раму.
Новоиспеченный староста, а до этого дня председатель колхоза «Заря» Яков Ефимович Бубнов принял решение служить новой немецкой власти добровольно. Несмотря на то, что за прошлые боевые заслуги, отвагу на фронте Первой германской и вступление в ряды ВКП(б) в революционном семнадцатом году он был безоговорочно и бессменно назначен председателем колхоза и даже самолично бывало раскулачивал (вплоть до расстрела на месте) односельчан, власть большевиков недолюбливал. Но никогда даже виду не подавал и языком понапрасну не чесал. Жизнь научила не спешить открывать рот даже среди самых близких, потому что и они могли ненароком обронить роковое словцо, которое в ловких руках дознавателей оборачивалось если не расстрелом, так ссылкой и лагерями по «антисоветской» статье.
По сути своей он не любил любую власть. Еще на фронте его увлек такой же, как он, молодой лохматый паренек-анархист, попавший по мобилизации на войну и шепотом вещавший про всеобщую свободу, братство и коллективное имущество. Эти принципы ему очень нравились и манили своею непознанной таинственностью и необычайной простотой. Но рассказать об этом вслух он боялся даже себе самому.
Жить свободным и независимым – это была заветная мечта Якова. Однако в реальности всю свою взрослую жизнь, которая началась в восемнадцать лет призывом в армию и отправкой на фронт, он преданно и истово служил власти: сперва царю-батюшке присягал в войсках, затем большевикам, свергшим прежнего хозяина земли русской, затем чекистам, проводившим красный террор и продразверстку, после партийному руководству, став председателем колхоза и организовав партячейку. И вот теперь немцам, установившим «новый порядок» – красное знамя со свастикой и портрет своего усатого лупоглазого главаря.
«Гори они все адовым огнем! – думал председатель Бубнов. – Мне бы только жену Александру вылечить. Да моих трех девок-дочерей выучить и замуж выдать, а уж какая вокруг власть – плевать! Лишь бы не грабили да не пытали. Хватит на мой век пыток и лагерей». Он вспоминал немецкий плен, мучения, ампутацию руки, неожиданное освобождение, размышлял о своей странной парадоксальной судьбе и машинально переводил слова нового коменданта. А затем и старика в штатском костюме, который оказался каким-то то ли вербовщиком, то ли агитатором. Тот взахлеб рассказывал о распрекрасных перспективах жизни крестьян под новой властью. А всем желающим предлагал возможность переезда в Великую Германию для работы на свободных немецких фабриках, огромных промышленных предприятиях и сельскохозяйственных фермах. После слова «фермы» крестьяне заволновались.