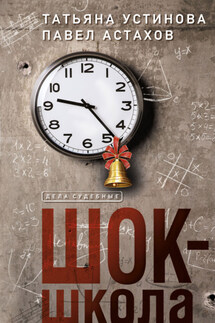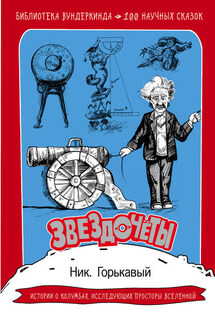Лёнька. Украденное детство - страница 9
Акулина от неожиданности выпустила воротник Лёнькиной рубахи и свое гибкое орудие расправы. Она не понимала ни слова по-немецки и испугалась грозного возгласа германца. Закрыла лицо освободившейся рукой и от страха вдруг разрыдалась. Слишком эмоциональным для нее оказалось это утро. Колонна фашистской техники под красным кумачовым флагом, вторгшийся в дом, а теперь хватающий за руки и орущий на нее вооруженный рыжий немец, чужие хохочущие солдаты, потешающиеся над их с Лёнькой «воспитательным процессом» – всё это смешалось и напугало бедную женщину. Силы под ледяной волной нахлынувшего страха едва не оставили ее, и она просто по-бабьи расплакалась. Слезы не разжалобили немца, но и продолжать этот скандал ни времени, ни желания ни у кого не было. Пацан, воспользовавшись этой заминкой, давно уже вырвался от матери, и о его присутствии напоминал только удаляющийся хруст веток малинника, густо растущего вдоль забора за домом.
Генрих отпустил женщину, подошел к своему мотоциклу, аккуратно припаркованному у калитки, и вытащил того самого петуха, что так фальшиво мешал ему наслаждаться утренней зорькой и отдавшего за это свою куриную жизнь.
– На! Готовь. Будем есть на обед. Давай, давай, быстрее! – Он ткнул Акулине в лицо перепачканным птичьим трупом. А она не могла понять, сколько он ни пытался объяснить ей жестами «ам-ам!», чего же хочет от нее этот щетинистый варвар. Неожиданно из-за спин гомонивших на улице возле забора солдат возник однорукий человек – председатель колхоза Яков Ефимович Бубнов:
– Herr Gefreite. Entschuldige! Ich will sprechen?[12]
Яков Ефимович, сорока пяти лет от роду, лишился руки еще в Первую мировую войну, когда попал в плен из-за ранения и там же научился весьма сносному общению на языке педантичного, но в конце концов поверженного противника. Он оказался среди двух с половиной миллионов плененных русских солдат и офицеров, но в отличие от многих из них чудом выжил, так как быстро постиг некоторые азы немецкой психологии. Каким бы варваром пред вами ни представал германский воин, он моментально отреагирует на подчеркнуто вежливое обхождение и обращение. Не случайно в их языке есть даже специальные «благородные» формы просьб и обращений. Если вы заговорите на таком подобострастном слоге, то даже садист вынужден будет вас выслушать, ну а уж потом… все равно казнит. Вопрос только – как и каким способом. Хотя бывали и исключения. Он сам, Яков Ефимович, и был таким исключением.
Немцы, как правило, избавлялись от военнопленных инвалидов и калек, но каждый раз, как они пытались «пустить в расход» рядового русской императорской армии Бубнова, он умудрялся «выхлопотать» себе отсрочку и так, в конце концов, сохранил жизнь, а после получил даже освобождение по итогам заключенного большевиками Брестского мира. Хоть и не сразу, но усилиями Центропленбежа[13] вернулся на Родину. И здесь ему повезло, потому как калек и инвалидов немцы вдруг стали отправлять в первую очередь. С началом «второй германской» из-за своей инвалидности он не был призван на фронт и управлялся с бабами да стариками, оставшимися в колхозе.
И вот сегодня новое немецкое оккупационное начальство возложило на него обязанности старосты, так как лучше этого старика никто не владел их языком, а к тому же председатель наперечет знал всех жителей окрестных деревень и сел. Ефимыч, мысленно поблагодарив небеса и немцев за то, что и на этот раз его не казнили, не стал ерепениться и отказываться, посчитав, что лучше уж он сам будет поддерживать порядок при «новых властях», чем пришлют какого-нибудь «варяга». Как к этому отнесутся односельчане, он прекрасно догадывался, но думал об этом сейчас меньше всего. Сейчас надо было спасать свою голову и хворой жены с тремя детишками. Яков женился очень поздно, уже после Гражданской войны и прошедшей коллективизации в 30-х годах, но, создав семью, быстро обзавелся малыми детками и теперь обоснованно опасался за их жизнь и судьбу. Непростая судьба, переполненная историческими событиями и потрясениями мирового масштаба, превратила председателя Бубнова в старика-инвалида, которому на взгляд можно было дать не меньше семидесяти лет.