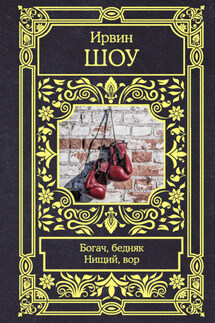Лесная рента в экономике России: оценка и эффективное использование - страница 2
Также Смит поднимает вопрос о назначении ренты, которую извлекает землевладелец: «Можно думать, что земельная рента часто представляет собою лишь умеренную прибыль, или процент на капитал, затраченный землевладельцем на улучшение земли. Это, без сомнения, может отчасти иметь место в некоторых случаях, но только отчасти». «Землевладелец требует ренту и за земли, совершенно не подвергавшиеся улучшению, а предполагаемый процент, или прибыль на капитал, затрачиваемый на улучшение земли, обыкновенно составляет надбавку к этой первоначальной ренте. Кроме того, улучшения эти не всегда производятся на средства землевладельца, нередко они делаются за счет арендаторов. Однако при возобновлении арендного договора землевладелец обычно требует такого увеличения ренты, как будто все эти улучшения были произведены за его счет. Он иногда требует ренту даже за то, что вообще не поддается улучшению посредством человеческих усилий» [Там же]. Здесь Смит подмечает, что, как правило, землевладелец рассматривает ренту как свой постоянный доход от владения и предоставления в пользование участка земли, т. е. как вознаграждение, которое получает фактор производства «земля». В представлении условного среднего землевладельца данный доход не подлежит ни инвестированию в восстановление плодородных свойств земли, ни в любые иные мероприятия по улучшению ее качества.
По мнению Смита, в силу монопольного положения землевладельца, земельная рента определяется исключительно той ценой аренды участка земли, которую готов платить арендатор: «Она не стоит ни в каком решительно соответствии с тем, что землевладелец затратил на улучшение земли или чем он мог бы довольствоваться; она определяется тем, что фермер в состоянии платить за землю» [Смит, 1962, с. 121]. Разумеется, утверждение о том, что землевладелец по отношению к арендатору является в строгом смысле монополистом, подвергается критике (см., например, аргументацию [Малышев, 2012, с. 21]).
В заключение главы о ренте Смит выстраивает теорию классового разделения общества в зависимости от роли в производстве продукта земли и вида вознаграждения, которое получают члены каждого класса: землевладельцы живут на ренту, рабочие получают заработную плату, а капиталисты – прибыль с капитала [Смит, 1962, с. 194]. Интересы первого класса неразрывно связаны с интересами общества, поскольку «всё, что благоприятствует или вредит интересам первого „класса“, неизбежно благоприятствует или вредит интересам общества». Любопытно отметить, что Смит был первым теоретиком, который обозначил причину явления «ресурсного проклятья»: «„Представители первого класса“ представляют собою единственный из трех классов, доход которых не стоит им труда и усилий, а приходит к ним как бы сам собой и независимо от каких бы то ни было их собственных проектов или планов. Эта бездеятельная жизнь, являющаяся естественным следствием довольства и прочности их положения, делает их слишком часто не только несведущими, но и неспособными к той умственной деятельности, которая необходима для того, чтобы предвидеть и понять возможные последствия той или иной меры регулирования».
Дж. Андерсон выделил две причины возникновения ренты: различную степень плодородия почв и снижение прибавки про дукта с увеличением интенсивности обработки земли3 . Впоследствии эти две составляющие станут называть дифференциальной рентой I и II рода соответственно. Если следовать логике Андерсона, то фермер, обрабатывающий землю лучшего качества, несет меньшие издержки труда и имеет возможность продавать свой хлеб дешевле, чем его коллега, трудящийся на участке худшего качества. Тем не менее, поскольку хлеба с лучших земель недостаточно, чтобы покрыть потребности рынка, рыночная цена возрастет, а образовавшийся излишек покроет затраты фермеров, обладающих худшими участками земли. Очевидно, что рыночная цена хлеба сравняется, независимо от того, на участках какого качества он был произведен. При этом фермер с худшего участка получит в цене лишь необходимую плату за производство своего продукта, а обладатель лучшего участка, сэкономив свой труд, присвоит своего рода премию за право исключительного пользования более плодородной землей.