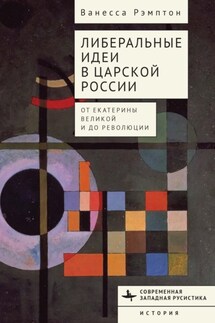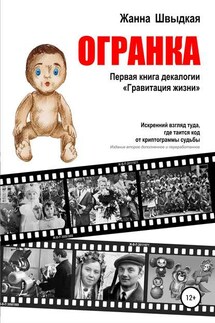Либеральные идеи в царской России. От Екатерины Великой и до революции - страница 8
Кант не только понимал свободу как обязанность подчиняться самостоятельно постигнутым нравственным законам, но и был одним из первых мыслителей, проводивших различие между негативной свободой – «свободой от», то есть отсутствием принуждения, и позитивной – «свободой для», то есть возможностью действовать по собственной воле [Caygill 1995: 207–208; Frierson 2003: 13–30]. Кантовское представление о человеке как о независимой личности, свободной и от оков общества, и от внутренних противоречий, действующей согласно велениям разума, прочно вошло в либеральную традицию как идеал позитивной свободы. Кант много рассуждает об обеих концепциях свободы в своих трудах по политической теории, утверждая, что любые ограничения свободы, налагаемые законом, должны вытекать из априорных принципов, постижимых разумом. В свою очередь, независимость, гарантированная законом, должна привести человека к осознанию того, что свобода – это право быть автономным, действовать по своей воле и полностью раскрыть потенциал собственной личности. Иначе говоря, наличие гражданского общества и закона создает эмпирические условия, необходимые для того, чтобы человек сформировался как автономное нравственное существо.
Кант считал, что априорные нравственные принципы, постижимые с помощью разума, связывают нас с ноуменальным[20]миром и служат доказательством существования метафизических «постулатов» – свободы, Бога и бессмертия. Он всегда утверждал, что сверхчувственный мир непознаваем, однако высказанное им в «Критике способности суждения» предположение о том, что природа обладает некоей целесообразностью, которая может помочь людям прийти к пониманию нравственной свободы, оказало огромное влияние на восприятие этих идей российскими мыслителями [Кант 1994,5][21]. Как правило, российские либералы-неоидеалисты связывали кантовский персонализм с религиозным восприятием трансцендентной онтологической реальности и выстраивали собственные концепции правового государства, опираясь именно на эти теоретические принципы.
Многие критики философии Просвещения (главным образом И. Берлин, а также коммунитарианцы и постмодернисты) писали о том, что концепция свободы, построенная на том, что естественные человеческие желания и порывы имеют рациональную и нравственную природу, порочна сама по себе[22]. Если люди оказываются не в состоянии справиться со своими чувствами и порывами, может случиться так, что их заставят осознать нравственный закон извне, тогда свобода превратится в принуждение. Как правило, российские последователи неоидеализма, в отличие от Берлина, не разделяли той точки зрения, что свобода (в понимании Канта) является субъективным понятием[23]. Пытаясь разрешить внутреннее противоречие теории Канта между рациональной личностью, которая сама формулирует собственные этические принципы, с одной стороны, и признанием индивидуального и культурного многообразия, с другой, они создавали собственные либеральные концепции. Главные российские мыслители, в том числе Чичерин и В. С. Соловьев (1853–1900), а также другие неоидеалисты, связанные с Московским психологическим обществом[24], каждый по-своему пытались пойти дальше Канта, однако все их усилия, скорее, служили иллюстрацией известного афоризма: «Можно быть за Канта, можно быть против Канта, но нельзя быть без Канта» [Каменский, Жучков 1994; Poole 1996а: 161–165].