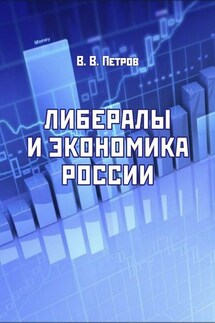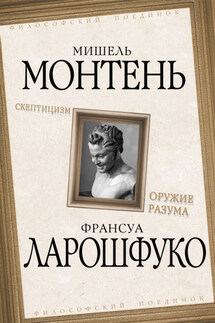Либералы и экономика России. Издание переработанное и дополненное - страница 63
– значительно выросшего прогрессивного налога на нэпманов. Прямым следствием этого, по сути, конфискационного налогообложения, дополненного прямым административным нажимом, стало полное свертывание к 1933 г. частного сектора в промышленности и торговле;
– средств, полученных за счет ограничения потребления городского и сельского населения (через увеличение подоходного налога и розничных цен на товары, существовавшую с 1928 по 1934 г. карточную систему их распределения, обязательные подписки на «займы индустриализации» и т. п.). В итоге жизненный уровень рабочих и служащих упал почти в два раза.
На этом фоне удивительным и непостижимым для нас смотрится еще один источник ресурсов для проведения индустриализации – духовная энергия трудящихся. Но остается фактом: большевики сумели вызвать и в течение многих лет поддерживать волну трудового энтузиазма, что нашло отражение в массовом «социалистическом соревновании».
За 1929–1937 гг. страна совершила беспрецедентный скачок в росте промышленной продукции. За это время в строй вступило около 6 тыс. крупных предприятий, т. е. 600–700 ежегодно. Темпы роста тяжелой промышленности были в два-три раза выше, чем за 13 лет развития России перед Первой мировой войной. В результате страна обрела потенциал, который по отраслевой структуре и техническому оснащению находился в основном на уровне передовых капиталистических государств. По абсолютным объемам промышленного производства СССР в 1937 г. вышел на второе место после США (в 1913 г. – пятое место). Прекратился ввоз из-за рубежа более 100 видов промышленной продукции, в том числе цветных металлов, блюмингов, рельсопрокатных станов, экскаваторов, турбин, паровозов, тракторов, сельхозмашин, автомобилей, самолетов. В целом к 1937 г. удельный вес импорта в потреблении страны снизился до 1%. Заводы и фабрики обросли сетью школ и курсов по профессиональному обучению. Наряду с бурным техническим перевооружением промышленности и государственной поддержкой «социалистического соревнования» это позволило превысить плановые наметки по росту производительности труда во второй пятилетке (67 против 63%). Форсированная индустриализация в короткий срок обеспечила полную занятость трудоспособного населения. Накануне первой пятилетки безработные составляли 12% от числа занятых в народном хозяйстве рабочих и служащих. И вот на 1 апреля 1930 г. впервые фиксируется снижение числа безработных (1 млн 81 тыс. человек), а к 1931 г. безработица в СССР была ликвидирована полностью, закрылась последняя биржа труда. Несравненно меньше политика индустриализации затронула другие отрасли экономики. По-прежнему ручной труд преобладал в строительстве, в аграрном секторе. Хронически отставала легкая промышленность.
Коллективизация сельского хозяйства. Добровольное производственное кооперирование мелких и средних крестьянских хозяйств, получившее в 20-е гг. название «коллективизация», рассматривалось большевистскими теоретиками как главный из двух способов социалистического переустройства деревни (второй способ: создание государственных хозяйств – совхозов, напрямую субсидируемых из казны). XV съезд партии (1927 г.) определил, что коллективизация должна стать основной задачей партии в деревне. После партсъезда заметно усилился рост числа колхозов. К июню 1929 г. они объединяли 4% крестьянских дворов, а спустя четыре месяца – уже 8%. Как видим, летом и осенью того года произошел определенный скачок, но скорее количественный, чем качественный, ибо в коллективные хозяйства тянулись в основном бедняки. Этот худосочный «социалистический сектор» практически никак не мог помочь властям решить до предела обостренную проблему хлебозаготовок. И с осени 1929 г. компартия переходит к политике насильственной – по отношению к большинству крестьян – коллективизации. 5 января 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». В соответствии с этим постановлением: