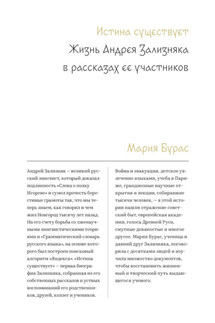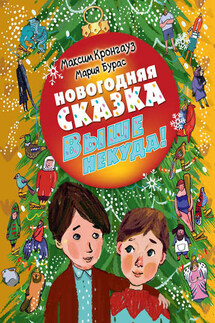Лингвисты, пришедшие с холода - страница 18
В 1951 году Вяч. Вс. Иванов окончил романо-германское отделение филфака МГУ и поступил в аспирантуру, после которой остался преподавать при кафедре общего и сравнительного языкознания. На защите кандидатской диссертации в 1955 году ему было решено присудить степень доктора наук, но ВАК[8] ее не утвердила (якобы были потеряны документы). Докторскую ему удалось защитить лишь в 1978 году в Вильнюсском университете – раньше и в других местах не давали из-за его «неблагонадежности».
– У него был тихий голос, – рассказывает Мельчук, – и он совершенно не имел ораторского вида. Вот его последние фильмы, где он уже старенький и с трудом говорит, – но он и молодой был примерно такой же. Возможно, из-за того, что его отец такой знаменитый, он как бы вначале, в самом начале на какой-то короткий момент стал своим человеком для советской власти. А именно – когда впервые послали советских ученых за рубеж на конференцию, на лингвистический конгресс в Осло, – это 1957 год.
В октябре 1958 года Борис Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, чего ему не смогли простить на родине. В тот же день Президиум ЦК КПСС принял постановление «О клеветническом романе Б. Пастернака», в котором решение Нобелевского комитета было названо очередной попыткой втягивания в холодную войну. Пастернака исключили из Союза писателей СССР, началась его травля в СМИ. «На общемосковском собрании писателей, когда его исключали из их Союза и требовали выслать его из страны, критик Корнелий Зелинский настаивал на том, чтобы репрессии распространились бы и на меня, – вспоминал Иванов. – Мало того, что я защищаю Пастернака и не подал руки Зелинскому, потому что тот написал статью против Пастернака. Я еще на стороне невозвращенца Романа Якобсона>46. На филологическом факультете Московского университета, где я тогда работал, учредили комиссию, которая должна была выявить мои отклонения от советской идеологической нормы. <…> После того как на основании заключения комиссии из университета меня уволили, мое знакомство с Якобсоном оказалось и препятствием для получения характеристики, которая требовалась для поступления на новую работу»>47.
«Когда я впервые увидел его, – пишет В.А. Успенский, – он был студентом кафедры английского языка филологического факультета Московского университета. Впоследствии он был заместителем главного редактора журнала “Вопросы языкознания”, руководителем группы математической лингвистики Лаборатории электромоделирования Академии наук, руководителем группы машинного перевода Института точной механики и вычислительной техники Академии наук, председателем Лингвистической секции Совета по кибернетике Академии наук, заведующим сектором структурной типологии славянских языков Института славяноведения Академии наук (сотрудником этого сектора он состоит и поныне), народным депутатом СССР, директором Всесоюзной библиотеки иностранной литературы, председателем секции переводчиков Московской писательской организации, заведующим кафедрой теории и истории мировой культуры Московского университета…Тогда он был просто Комой»>48.
– Иванов нас – ну, «нас» я говорю про нескольких человек, про которых я знаю, – разбудил и превратил в ученых, – говорит Мельчук. – Советский университет в то время, когда я учился, это было что-то абсолютно чудовищное. Я первые три университетских года вообще при Сталине жил, когда вместо языкознания преподавался предмет «введение в сталинское языкознание». Теперь в это поверить трудно. Но факт. Никакой, конечно, лингвистики там не было. Я думаю, что практически для всех нас с поправкой на личные особенности Иванов играл одну и ту же самую роль: он подталкивал и указывал, называл разумные темы, он обращал внимание на вещи, где можно напороться, в тупик зайти и так далее. Он действительно впередсмотрящий. Я думаю, что он эту же роль сыграл для очень многих. Он был такой пастырь, водитель.