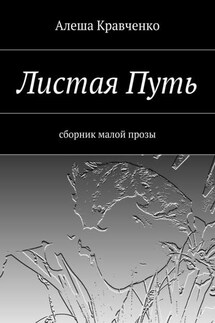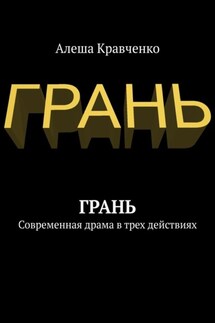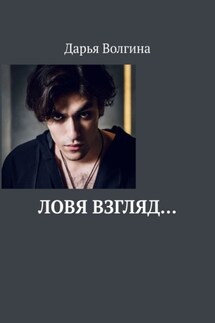Листая Путь. Сборник малой прозы - страница 8
– И Вы себя относите именно к «поэтам свечи». Мне понятно. Спасибо за откровенность… – Анна попросила наполнить ее опустевший за время моего монолога бокал и потянулась за огнем, чтобы затеплить новую папиросу. Едва пригубив, она поднялась, подошла к окну, за которым царило звездное великолепие, и продолжала:
– Я попрошу не перебивать меня, как бы Вам не захотелось поспорить. И попрошу не обижаться, что я стою к Вам спиной, в то время как Вы исповедовались мне, глядя в глаза. Но мне, действительно, так будет проще, а нам обоим – так лучше…
***
– Ваша теория мне действительно приглянулась. Самое важное в ней – она удобна для Вас. Вы, скорее всего, никому ее так подробно не излагали, хотя сформулировали не сегодня. Но обаяние и уязвимость ее, на мой взгляд, состоят в одном и том же: Вы брали готовое творчество и «подгоняли» его под какой-либо символ огня, а не наоборот. И, если символа Вам не хватало, с легкостью отыскивался новый, ранее ни с кем до этого не сопоставленный…
Кстати, меня весьма удивило то, что Вы на протяжении своего «доклада» неоднократно демонстрировали мне еще один красивый огненный символ, но даже не назвали его…
У Вас же сейчас в руках есть горящая папироса? Подержите ее в одном месте, чтобы дым потянулся туда, куда гонит его дуновение ветра. А потом резко сдвиньте огонь в ту же сторону. Что получится? Не надолго, но весьма запоминаемо останется перед глазами картинка: источник дыма уже совсем в другом месте, а сама струйка белого разреженного воздуха все еще тянется из места, где мгновенье назад был огонь… Извините…
Моя же теория – в чем-то схожая с Вашей, даже при всем ее внешнем отличии, – на самом деле, различается лишь в одном: я нашла приемлемую классификацию, а потом отстраненно смотрела, кто под какой критерий подходит больше. В основе моего построения – извечная философская категория – четыре неизменных стихии.
«Поэты воздуха» легки, неуловимы, непостоянны. Сегодня они здесь, а завтра – в миллионе верст. Не угнаться. И смерть для них – попытка «приземления». Да, я согласна, Пушкин был наказан роковым, но неминуемым стечением обстоятельств, которые – так иль иначе – привели бы его на погост. И именно за попытку насладиться элементарным семейным счастьем, за рвение «приземлиться», заматереть, распутаться от долгов…
«Поэт земли» всегда стоит на ней твердо. Он не идет на авантюры, не стремится к легкой удаче. Он не поставит на кон последнюю рубашку. И дело даже не в том, что именно «последней» у него с собою нет – она или их множество – надежно спрятаны в домашних сундуках! Да, он описывает то, чем сам живет, что чувствует, что видит у соседей и знакомых. Ему «порывы» ветра чужды и враждебны. Их «слог» – в любом жанре искусства, – на первый взгляд, тяжеловесен и массивен, но есть в них трепетная, непоколебимая жажда жизни и достоверное знание этой жизни.
«Поэт огня» неукротим и ярок. Он не жилец на этом свете и его мечта – сгореть, оставив сколько можно больше света, радости, тепла. Во всех своих чудачествах он неукротим и не терпит каких-либо «рамок». Бунтарь, шалопай, у которого строчки секут по щекам, по душе…
А «поэты воды» – это тихая вечная мудрость, кусочек которой они благосклонно дают окружающим в дар. Почти столь же неуловимы, как ангелы ветра, они увлекают в пучину, обволакивают собою и успокаивают даже поклоняющихся огню…