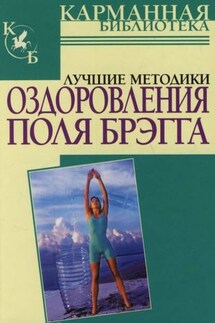Литературный оверлок. Выпуск №2/2018 - страница 13
11
Долгое время Яков истово верил, что главный смысл его пребывания на фронте – запечатлеть войну не в лубочных картинках, на которых и над мертвыми светило солнце, и не на бравурных агитационных плакатах, где кровь зачастую пахла клюквенным соком.
Яков чувствовал себя живописцем, спустившимся в ад, где художнику моделями служат не обнаженные тела прекрасных натурщиц, а разрушенные города с посиневшей от побоев кожей. Обе воюющие стороны он ощущал как части единого ада, и в кромешной тьме войны он рвался к Свету, где бы ни встречал его: в обращении к небу еще не закрытых навечно зрачках убитого героя, теплоте молитвенных слов незнаемой прежде старухи из случайного дома на пути, или даже глазах иного военнопленного, на ломаном русском объясняющего, что он отправился воевать только, чтобы не тронули его семью, и что Достоевский ему дороже Гитлера.
Что касается пленных, то на милость врага отдавались пока еще считанные единицы, но винили в этом не отступавшую краснознаменную армию, а тех художников, что вместе с Яковом трудились над листовками, призванными убедить чужих солдат в том, что там, где кончается верность своей злополучной родине, начинаются кисельные берега и берут свои истоки кисельные реки.
Когда не хватало оружия, а то, что имелось, выходило из строя, когда то и дело подводила техника, приходилось рассчитывать на листовки. Ими начиняли снаряды, сбрасывали с бипланов, не забывали взять с собой разведроты. Бывало, что пачки листовок клали на плоты и отправляли на другой берег, как письма врагу.
До сентября 1941 года все листовки составлялись только в Москве, при центральном «7-м управлении по работе в войсках и среди гражданского населения». Вдали от Москвы сочиненные в столице листовки могли лишь распространять, а не придумывать сами. Оттого случались нелепости. Листовка говорила о сокрушительном разгроме наступающих немецких дивизий и там, где могли похвастаться только одним лишь захваченным у врага автоматом. Как-то близ Новгорода распространили листовки о полной победе над 11-ой немецкой пехотной дивизией. Оказалось, что именно эта дивизия еще вовсе не участвовала в наступлении. Дабы избежать подобной путаницы, в сентябре 1941 года отделам политического управления на фронтах было наконец разрешено составлять свои собственные листовки.
Во время первого артобстрела, в который он попал, Яков увидел, как по разному отвечают лошади и кони гибельному небу. Молодые животные заходились в неистовой пляске, беспомощно прыгали с места на место, ржали испуганно, тогда как бывалые лошади ложились на землю и замирали неподвижно. Вокруг них словно останавливалось время. Рядом бегали, кричали, суетились все остальные, но все это было отгорожено от них некой магической чертой. Все мгновения всеобщей паники они жили в коконе остановившегося времени.
Вечером политрук застал Якова за рисованием лошади.
– Это что? – растерялся политрук.
– Лошадь, – объяснил Яков, – разве не похоже?
– А зачем нам сейчас лошадь?! – политрук окончательно перестал понимать происходившее, – зачем нам сейчас лошадь?
– Просто рисую, – с вызовом посмотрел на него Яков.
– А… вот оно что! – недобро захохотал политрук, – рисует он, видите ли! А то, что война сейчас, это ничего?! Война, что, она подождет, пока он своих лошаденок рисовать будет! Не на то вы талант свой употребляете! Ох, не на то! Немец, всей мощью своей поганой, на нас прет. И художники ихние, между прочим, еще как в этом участвуют! То и дело с самолетов нам листовки свои сбрасывают. У нас бойцы, конечно, сознательные, вместо туалетной бумаги их используют. Но стараний художников ихних не признать нельзя. А вы тут лошаденок каких-то рисуете. Каждый на своей линии фронта врагу отпор дает. Если у вас карандаш в руках лучше держать получается, чем оружие, так от других не отставайте, карандашом их разите, а то с каждого потом спросится, в конце войны, сколько фрицев на его счету, и как бы вам потом стыдно не стало, что вы черт-те чем в войну занимались. Поизучайте-ка вражеские агитки, да повнимательнее! И сделайте лучше!