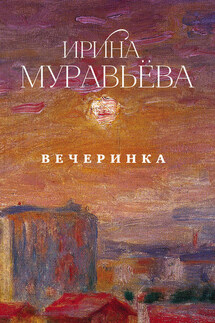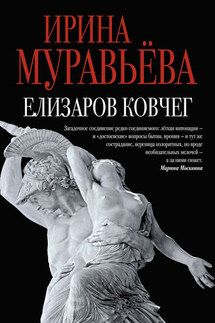Любовь фрау Клейст - страница 6
Жестокость и злоба мои нарастали по мере усталости. Я стремилась убежать из дома, бросала ее и бродила по улицам. О главном я не догадывалась: о том, как ей было страшно. О том, через что проходила она.
Но Бог пожалел нас обеих. Никогда этот день не забуду. Был дождь. Дождь со снегом. Сизая вода с размокшими черными листьями под ногами, ветер, лязг фонарей, комочки птиц. Я медлила возвращаться домой и нарочно прошла пешком от Ленинских гор до проспекта Вернадского. Купила торт в кондитерской – жирный, розовый, большой, с замороженными розочками по углам. Открыла дверь.
Она сидела в темноте на кресле, не спала. Ей трудно было дотянуться то торшера и зажечь свет. Форточка приоткрылась, в комнате было холодно. Я села рядом с ней на кровать, обняла ее одной рукой, другой начала кормить с ложечки этим тортом. И вдруг ее всю ощутила: живую, родную и теплую. Увидела ее знакомые, седые и тусклые, как осенние травинки, волосы, допотопную шпильку в распавшемся пучочке, ее дрожащий маленький мизинец с ноготочком-ромбиком. Особенно этот мизинец!
Меня перевернуло. Я вспомнила, как каждое утро – все детство, лет до тринадцати, может, и дольше – я каждое божие утро, проснувшись, кричала ей:
– Баба!
Слезы полились так, что я уже ничего не видела: ни ее лица, ни белого крема на кончике ложки, – ничего, кроме этого дрожащего мизинца. Я в голос рыдала, прижавшись к ее шее, и все повторяла, как люблю ее, просила прощения, и ужас последних двух месяцев, наш общий с ней ужас, выталкивало из меня вместе с этим криком. И помню: она вдруг ответила. Своим прежним, внятным и полным достоинства голосом.
– Я знаю, не плачь. Я все знаю.
Нина сидела за компьютером, не оглянулась. Даша подошла ближе, погладила ее по плечу.
– Ты уроки делаешь?
– Почти.
– Что такое: почти?
– Ну, значит, что я занята.
Внизу сильно хлопнула дверь, и голос, вечно торопящийся сказать сразу много всего, детский и одновременно хрипловатый, немедленно вызывающий в памяти простодушное сияние серых глаз под толстыми очками, этот женский голос, отдышавшись и выпустив из горла разноцветную, как мыльные пузыри, и такую же хрупкую гирлянду бестолковых приветствий, спросил наконец очень нежно:
– А Дашечка дома?
Даша сбежала с лестницы, обеими руками прижала к себе запах дешевых духов, вспотевшую шею, большое широкое тело с немного задравшейся спереди юбкой и тут же оцарапалась о похожее на частокол украшение.
– Ну где ты была? Наконец-то!
– Мои старички, ты же знаешь, смешные, маразм, конечно, но очень смешные, и пишут, и пишут, и все о любви, сегодня был вечер, ты будешь смеяться, «Второе свидание», и я им сказала: о первом не будем, о первом все помнят, а вот о втором, о втором расскажите, и, что бы ты думала, все рассказали! Как будто вчера. Танцевали, играли, и Геда играла, конечно, уже не звучит, но играла, а Изя Гольщинский, пошляк, не без шарма, – он стал танцевать с Идой Шнурик бразильское танго, смешно, очень мило, но дальше – кошмар, тихий ужас, буквально! Они напились!
– Кто напился?
– Мои старички. Нам нельзя. Я сказала: «Мужчины, без пьянства! Разгонят весь центр!»
– Какой еще центр?
– Ну, я же писала! Наш центр – «Заботу». Еще есть «Надежда», еще есть «Зазноба». Я их умоляла, сто раз умоляла: «Спиртного нельзя. Вас разгонят!» Но там один летчик, в войну он был летчик – четыре инфаркта, инсульт за плечами, двух жен схоронил, – он сказал: «А, дерябнем? Слабо, мужики, нам пойти и дерябнуть?» А я и не знала, а я не следила. Они все пошли, напились в туалете.