Люди греха и удерживающие - страница 37
Когда я рассказал Борису Курову о наших необычайных приключениях в чеченском ауле и о краже лыж, он мне поверил на слово и попросил только написать заявление на списание пропавшего спортинвентаря. Достать туристские лыжи в то время было большой проблемой, да и лишних денег у меня не было.
Игры в диссидентство
О. Рабин. «Натюрморт с рыбой и газетой «Правда».
Вспоминая еще о временах студенческой жизни, отмечу, что на субботу-воскресенье мы могли себе позволить съездить на поезде в Ленинград или Москву. Ходили в столицах по музеям и выставкам, обязательно посещали последнюю премьеру в каком-нибудь модном театре. Билет в обе столицы стоил около 10 рублей в одном направлении, но студентам полагалась на каникулах 50 %-ная скидка. По приезде мы ночевали обычно одну-две ночи у знакомых. Летом знакомые москвичи и ленинградцы приезжали к нам в гости в Ригу, недельку жили у нас по домам, ездили на электричке в Юрмалу загорать и купаться. Совершался своеобразный бартерный обмен жилой площадью на время отдыха.
Сейчас такого рода обмен жильем коммерциализировали и назвали каучсерфингом. В этой своеобразной гостиничной сети много внимания уделяется безопасности при обмене жильем на время, участники сети регистрируются через банковские платежные карты, которые позволяют полиции легко найти в случае чего нечестных людей. Для нас же достаточно было рекомендации друзей, а от краж во время отдыха в чужой квартире сдерживал простой человеческий стыд.
Друзья в Москве ввели меня в диссидентские круги. Я ходил на собрания либеральной интеллигенции, читал машинописные экземпляры работ А. Солженицина, манифесты А. Сахарова, недоступные тогда романы М. Булгакова и Б. Пастернака. «Мастера и Маргариту» М. Булгакова я с азартом проглотил за одну ночь – на больший срок «подпольные» машинописные тексты не давали, а вот «Доктор Живаго» Б. Пастернака совсем «не пошел». Я с восторгом читал его лирические стихи, сборники которых были в свободной продаже, а вот в прозе нашел автора слабым. Ничего антисоветского в «Докторе Живаго» я также не обнаружил. Пастернака склоняли тогда в нашей прессе и на собраниях производственных коллективов больше за то, что он переправил для издания рукопись своего романа на Запад, а сведения об этом поступке стали распространять «вражеские» радиоголоса.
В диссидентских компаниях, которые я посещал в Москве, обычно пили недорогое сухое вино и пели под гитару песни В. Высоцкого, А. Галича, Б. Окуджавы. В этих песнях слышалось недовольство интеллигенции своим положением и преклонение перед Западом, где все хорошо. У Александра Галича была, например, такая ядовитая антисоветская песня про разговор с западными туристами:
Про Запад я тогда сам составить суждение не мог, поскольку был невыездной. Но то, что в песне А. Галича присутствовало низкопоклонничество перед Западом легко сообразил.
Оппозиционно настроенные к коммунистическим властям художники без разрешения устроили тогда в Москве на пустыре выставку своих картин. Милиция ее разорила. Выставка получила название «бульдозерной», поскольку там какие-то картины закатали в грязь этими строительными машинами. На самой выставке я не был, но кое-какие картины потом посмотрел в мастерской Оскара Рабина. Честно скажу, оценить сразу эти картины не смог. Мне тогда нравились старые голландские и итальянские мастера, писавшие с величайшей тщательностью и любовью к изображаемому человеку или предмету. А тут были картины, на которых небрежно изображались бутылки, стаканы, окурки папирос, вобла, старые газеты. Люди были на картинах художников-диссидентов с корявыми телами и уродливыми лицами. Авторы этих людей и эти предметы явно не любили. Но нарисовано все было талантливо, а главное – правдиво.
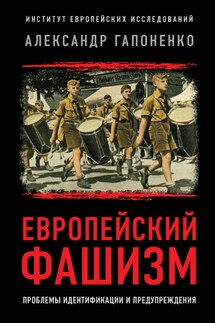
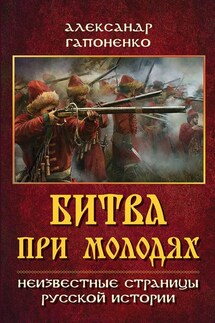
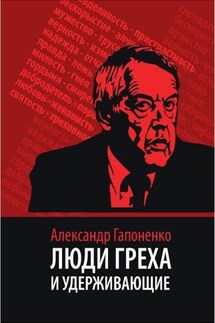

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



