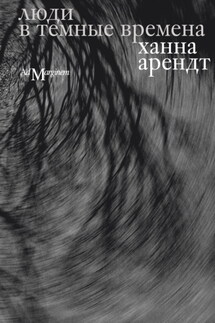Люди в темные времена - страница 8
Так настойчиво подчеркивая свою принадлежность к группе евреев, в относительно раннем возрасте изгнанных из Германии, я хочу предвосхитить недоразумения, слишком легко возникающие, когда говоришь о человечности. В этом контексте я не могу умолчать о том, что в течение многих лет единственным уместным ответом на вопрос: «Кто ты?» – я считала ответ: «Еврейка». Лишь такой ответ учитывал реальность гонений. А позицию, которая на приказание: «Подойди поближе, еврей!» – отвечает (по сути, а не дословно), как Натан: «Я человек», – такую позицию я бы сочла гротескным и опасным уклонением от реальности.
Позвольте мне кратко разъяснить и другое возможное недоразумение. Произнося слово «еврей», я не имею в виду какой-то особенный человеческий тип, как если бы еврейская участь была или представительной, или образцовой для участи человечества. (Без идеологических искажений подобный тезис можно было бы хоть сколько-нибудь убедительно защищать только в последний период нацистского режима, когда, действительно, евреи и антисемитизм эксплуатировались лишь для того, чтобы развязать и поддерживать в силе расистскую программу уничтожения, составлявшую ключевую часть данной формы тоталитарного режима. Хотя нацистское движение с самого начала имело тоталитарную тенденцию, в свои ранние годы режим Третьего рейха тоталитарным отнюдь не был. «Ранними годами» я называю первый период, который длился с 1933-го по 1938-й). Отвечая «еврейка», я имела в виду даже не какую-то исторически нагруженную или отмеченную реальность. Я просто признавала политическую ситуацию, в результате которой моя принадлежность к данной группе перевешивала все другие способы личной идентификации или, точнее, предрешала их в смысле анонимности, безымянности. Сегодня такая позиция показалась бы позой. Сегодня, следовательно, легко было бы указать, что те, кто реагировал подобным образом, не очень далеко продвинулись в школе человечности, угодили в расставленную Гитлером ловушку и, соответственно, по-своему подчинились духу гитлеризма. К сожалению, здесь имел силу сам по себе очень простой, однако как раз в эпоху клеветы и гонений с трудом усваиваемый принцип: сопротивляться можно лишь в том самом качестве, в каком ты являешься объектом нападения. Те, кто отвергает подобную идентификацию со стороны враждебного мира, могут ощущать восхитительное превосходство над этим миром; но подобное превосходство действительно будет уже не от мира сего, будет превосходством более или менее хорошо укрепленного воздушного замка.
Когда я так прямо раскрываю персональную подоплеку моих размышлений, то тем, кто знает о судьбе евреев лишь с чужих слов, может показаться, что я говорю из какой-то школы – школы, которую они не посещали и уроки которой их не касаются. Однако в тот же самый период в Германии существовал феномен, известный как «внутренняя эмиграция», и те, кому знаком этот опыт, конечно, узнают некоторые вопросы и конфликты, родственные тем проблемам, о которых я говорила, не только в формально-структурном смысле. Как ясно из самого термина, «внутренняя эмиграция» была своеобразно двойственным феноменом. С одной стороны, она подразумевала, что некоторые люди в Германии живут так, словно уже не принадлежат этой стране, словно эмигранты; и с другой стороны, она подразумевала, что в реальности они не эмигрировали, но удалились во внутреннюю сферу, в невидимость мышления и чувства. Было бы ошибкой считать, что такая форма эмиграции, уход из мира во внутреннюю сферу, существовала только в Германии, – и такой же ошибкой было бы полагать, что эта эмиграция закончилась вместе с концом Третьего рейха. Но в то – самое темное – из времен и в Германии, и за ее пределами особенно сильным было искушение перед лицом казавшейся невыносимой реальности удалиться из мира и его публичного пространства во внутреннюю жизнь или же просто игнорировать этот мир ради мира воображаемого, «каким он должен быть» или каким он некогда был.