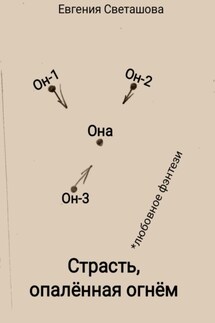Мама по контракту - страница 3
— Слишком сильный запах? Сейчас проветрится.
— Ничего, не страшно, — говорю я. Страшно то, что теперь у меня нет Олега. Был пять лет, а теперь хлоп и испарился. — Я потерплю запах. Меня не укачивает. Это адрес моей подруги. Она должна быть дома.
— А вы позвоните, — настаивает женщина. — А то, может, мне стоит вас прямо в больницу везти. Одной сейчас точно быть не стоит. Когда я носила Сонечку, меня трижды клали на сохранение. И один раз могли не успеть — хорошо, рядом оказался понимающий человек. Так что звоните. Я не тороплюсь, подожду.
Я достаю телефон, ищу номер Машки и жму вызов. Она отвечает почти сразу.
— Я сейчас еду к тебе, — говорю я. — Никуда не уходи.
— Не уйду, конечно. Что у тебя стряслось? Уволили?
— Почти. Скоро буду, — я нажимаю отбой.
Женщина улыбается успокоенно и выруливает на дорогу. У нее очень красивые серьги — из яркой тесьмы и стразов. Что-то индийское: желтое, оранжевое, зеленое. Как тропические птицы. Я стараюсь смотреть на них всю дорогу и не думать.
Мы приезжаем очень быстро.
Женщина выгружает из багажника колыбельку, а потом, не слушая уговоров, помогает поднять ее на третий этаж Машкиной хрущевки. Лифта тут нет.
Женщина прощается, ободряюще хлопает меня по руке, говорит:
— Держитесь, — и уходит, напоследок сказав: — Все будет хорошо. Это большое счастье, просто потом поймете.
Я понимаю даже сейчас, но внутри все — сплошная рана. Это даже не боль, это нечто большее.
Я звоню в дверь. Жду.
Почему-то на лестнице очень холодно. Мне наверно никогда в жизни не было так холодно. Дрожь пронизывает тело от шеи и до колен. Хочется сжаться в комок прямо тут, на лестнице. Я заставляю себя дышать ровно, потому что при такой трясучке даже сказать Маше слово не смогу.
Кутаюсь в шарф и сую руки в карманы. Натыкаюсь на что-то, вытаскиваю и понимаю, что это та самая купюра в пять тысяч, за которой я бегала домой.
Выходит, женщина не взяла денег. Сунула мне обратно в карман.
Внизу щелкает замок на двери подъезда, и я не успеваю сообразить, что надо крикнуть “спасибо”.
Женщина наверно уже ушла и орать на весь подъезд глупо.
Машка открывает двери. Без улыбки.
И я перед ней — с плотно упакованным в пупырчатый полиэтилен свертком, по которому не разберешь, что внутри. И с купюрой в руке.
Маша замирает, ее брови ползут вверх, а меня наконец прорывает.
Я реву. Это как поток — не остановить.
— Твою мать! — шепчет Машка и затаскивает меня внутрь.
4. 4.
Я рассказываю и замечаю, что чашка в руках дрожит. Ставлю ее на стол, контролируя каждое движение.
На Машу мне смотреть боязно. Почему-то кажется, что сейчас она пожмет удивленно плечами и скажет что-то обвиняющее.
Что я сама виновата. Была плохой женой и хозяйкой. Все делала не так. И наверняка тайком спихивала Олега в чужие руки, а теперь еще имею наглость жаловаться.
Все это представляется так четко, что когда Машка подходит сзади, матерится грубо и горестно и обнимает меня за плечи, я каменею.
Просто не верю в то, что меня утешают. Понимают. Жалеют.
— Я чуяла, что этот твой “Олежек” — мудак с дерьмом вместо мозгов. Такую девчонку променять… Жизнь свою счастливую променять! Все просрать! — Машка не стесняется в выражениях. — Вере я отдельно выскажу. Она у нас, к несчастью, в семье как младший брат в сказках — дура дурой. Но знаешь, это большая глупость все сваливать на нее. Виноват этот… козлина!
— Маш, а что мне делать? — спрашиваю я.