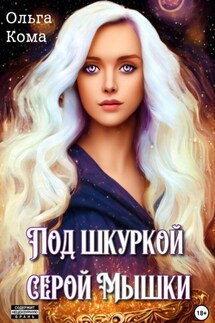Манифесты русского идеализма - страница 108
Историей увековечен один классический пример подобного радикализма: это – жизнь и деятельность «последнего римского республиканца» Брута. Любопытно и крайне характерно для столь искаженного молвой миросозерцания Ницше его отношение к этому историческому образу, высказанное в одном отрывке «Радостной науки»[104]: «Высшее, что я мог бы сказать к славе Шекспира, как человека, – говорится там, – есть следующее: он верил в Брута и не набросил ни пылинки недоверия на этот род добродетели. Ему он посвятил свою лучшую трагедию – она до сих пор еще зовется не настоящим своим именем, – ему и самому страшному содержанию высокой морали. Независимость души – вот о чем идет здесь речь. Нет жертвы, которая могла бы быть слишком великой для этого…» Высказав предположение, что эта трагедия отражает какое-нибудь событие в жизни ее автора, Ницше прибавляет: «Но каковы бы ни были подобные сходства и тайные связи (трагедии с душевной жизнью ее автора), одно ясно: перед общим обликом Брута и его добродетелью Шекспир пал ниц…» и, добавим, Ницше подобно Шекспиру. Образ Брута служит Ницше олицетворением его идеалистического радикализма – героической борьбы за идеал независимости духа, идеал, в котором как бы суммировано уважение ко всем духовным благам, любовь ко всем священным правам человеческой личности>107*.
К нашей характеристике этического и социально-политического идеализма в системе Ницше остается добавить лишь одну хотя и побочную, но все же весьма существенную для него черту. Этот идеализм остается у Ницше реалистическим: как ни далеко лежит от обычной жизни и ее интересов то «дальнее», любовь к которому кладется в основу морали, оно не находится за пределами земной, эмпирической жизни. Моральные «призраки» и воплощающее их существо – сверхчеловек – остаются призраками земными, не сошедшими с неба, а рожденными на земле человеческой головой и человеческим сердцем. «Нечестивец» Заратустра решительно оказывается освятить метафизической санкцией свой крайний идеализм; этот идеализм остается земным не только по своему практическому приложению, которое заключается в плодотворной работе над общественно-моральным обновлением человечества, но и по своему теоретическому значению и обоснованию. «Я люблю тех, – восклицает Заратустра, – кому не нужно искать за звездами оснований, чтобы погибнуть и стать жертвой, но кто посвящает себя земле, чтобы на ней некогда воцарился сверхчеловек»>108*. Расставаясь со своими учениками, Заратустра в прощальной речи увещевал их «остаться верными земле»:
«Оставайтесь верными земле, мои братья, со всей силой вашей добродетели! Ваша дарящая любовь и ваше познание да служит смыслу земли! Так прошу и заклинаю я вас.
Не давайте вашей добродетели улететь от земного и биться крыльями о вечные стены! Ах, на свете всегда было так много заплутавшейся добродетели!
Сведите, подобно мне, улетевшую добродетель назад к земле, да, назад к телу и жизни: чтобы она дала земле ее смысл, человеческий смысл!»>109*
Несмотря на то, что вся мораль основывается Ницше на любви к абстрактным «призракам», он не забывает, что эти призраки суть лишь создания человеческого духа, и это в его глазах отнюдь не умаляет их ценности, а лишь возвышает ценность их создателя – человека. «Новой гордости научило меня мое я, и ее я заповедую людям: не зарывать голову в небесные пески, а свободно нести ее, земную голову, которая одна и создает смысл земли!»