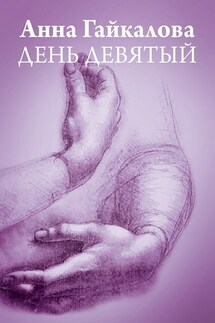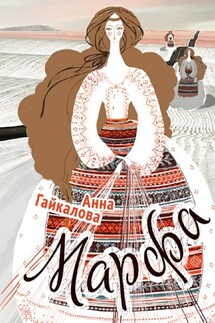Марфа - страница 9
Это случилось или там, за спиной, мираж? Ты убедил себя в том, с чем тебе легче жилось. Как признаться себе, что эта кровь, которую ты своими поступками пролил, была в спасенье? Где взять сил, чтобы простить главного обидчика – себя?
Это ад. Тот, другой, ненавидим, но он прощен и оправдан. И только себе ты не в силах простить раздора. Стыд выжигает твои глаза, и они отказываются видеть выход. Разве можно с обожженными глазами стремиться к свету? Нет, а у твоей души не осталось слез.
Они сказали тебе: «Прости себя», и твое горло разучилось глотать. Потому что ты так был воспитан, тебя с детства учили, что говорить о себе плохо – недопустимо.
– Я глупец! – сказал ты однажды и получил пощечину от отца.
– Не смей говорить о себе так! – отец был суров. – В нашем роду все умны!
С тех пор каждый свой шаг ты объяснял именно этим. Ты не слушал ничьих слов, отец оставался главным.
И вот тебе предстояло решить, кому сохранить верность. Но ты умер, потому что не смог выбрать между смертью и смертью.
И теперь, из смерти своей, ты слышишь мои слова. Теперь ты меня слышишь.
Ночью, когда младшие уже давно спят, наши взрослые дети все еще шепчутся, насмешничают, лениво играют друг с другом. Комната одна, но все они там разместились, да вот еще надули матрац, расстелили посредине и не оставили свободного места.
– Как теперь выходить, если что?
– Если что, смело падай.
Хихикают. Их проверяет кот, пересчитывает, все ли на месте. Смеются громче, наверное, кот сбился и пошел по второму кругу.
Зовут меня, скребутся в картонную перегородку. Она до потолка не доходит, чтобы свободно ходило тепло от печки.
– А этот Старец, он правда тут был?
– В каждом месте земли был свой Старец.
– Как везде кто-то родился? Как везде кто-то умер?
Летучие ночи не держатся стаей. Ночь всегда летит в одиночестве, разметая потоки дыханий в ней спящих. Каждое дыхание слышу и различаю.
Один, засыпая:
– Скажи, что важнее любви?
– Мир сердца.
А про Старца я им не случайно сказала. Верю, что так оно и есть на земле. Вот, ходила в соседнюю деревню к травнице, закваску для теста взять, и она мне свою историю рассказывать взялась. И спешила я, а заслушалась. Сидела и думала только, как донести до своих, чтобы капли не расплескать.
Травница эта не здешняя, родилась в сибирской деревне и всю жизнь считала, что потому она особенная.
Она росла тихой девочкой, или такой казалась. Худенький такой мышонок белый, вроде ручной, а вроде некормленый. Родители ее никогда не догадывались, что она снова сделала что-то не так, как хотели они. Потому что дочь всегда говорила: «Да, хорошо» или просто молча кивала, немного улыбаясь. При этом смотрела она спокойно и мягко, никогда не перечила. Вот, никому в голову и не приходило проверить, выполнила ли она родительский наказ.
Хватало родителям хлопот – присматривать за ее старшей сестрой, которая в тринадцать лет вышла замуж за местного тракториста и рожала теперь, как их корова Милка, по разу в год. Травница же все нужные дела по дому делала. А остальное время проводила в лесу или бегала в село помочь старому попу, который все служил свои обедни, а ни матушки, ни дьякона у него не было. И церковка старая стояла, травница объясняла, только на честном слове держась, исключительно ради него, чтобы не огорчать своего служителя перед смертью. Она-то и нашептала, что ненадолго его переживет. Девочка тогда маленькой была и не удивилась, когда голос церкви услышала. А поскольку не напрасно слыла молчаливой, то ни одной душе не рассказала. Привыкла, а потом уж, когда подросла и поняла, что не со всеми церкви говорят, ничего не стала никому передавать, подумала: «Все равно мне никто не поверит».