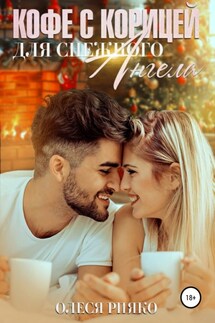Марк Шагал. История странствующего художника - страница 17
Это был мир, далекий от еврейских ритуалов Покровской улицы. Гимназию Шагал воспринимал как тюрьму: «У меня наверняка заболит живот, а учитель не позволит мне выйти». Шагал, поступивший в третий класс, где учителем был бородатый Николай Ефимович, сразу начал с ним войну. Уроки шли на незнакомом русском языке, кириллический алфавит тоже был неизвестен Шагалу, и он сопротивлялся тому, что его насильно заставляют принять новую для него цивилизацию. Шок от гимназии был таким сильным, что Мойше начал заикаться и стал таким нервным, что, даже когда и знал урок, не мог ничего произнести. «Та-та-та», – заикался он в ответ на вопрос о татарском нашествии. «К черту героизм!.. Меня пронзала болезненная дрожь, и когда я шел к черной доске, то становился черным, как сажа, или красным, как вареный рак… Что хорошего было в этих уроках? Одна сотня, две сотни, три сотни страниц моих книг вырвать бы безжалостно да развеять по ветру. Пусть пошепчут друг другу все слова русского языка… Оставьте меня в покое!»
Еще Шагала ошеломило море голов над рядами скамеек, в классе смешались русские, белорусы, поляки, а евреев было совсем немного. Здесь он лицом к лицу столкнулся с классовыми и этническими предубеждениями, царившими в Российской империи. Среди еврейских мальчиков особенно заметны были Осип Цадкин, будущий скульптор, он был на три года младше Шагала, отец его был состоятельным учителем классических языков, а мать имела шотландское происхождение; сын Яхнина, торговца селедкой, у которого работал отец Шагала, и Авигдор Меклер, чей отец Шмерка Меклер был богатейшим владельцем бумажной фабрики. Яхнин и Меклер входили в дюжину представителей еврейской элиты 1900-х годов, поскольку были купцами первой гильдии. Цадкин и Меклер обладали художественными интересами, но Шагала пугало их привилегированное положение. По контрасту с этими лощеными юношами он был слабовольным, робким заикой и потому начал тренироваться, поднимая двадцатикилограммовые гири, чтобы накачать такие мускулы, какие были у отца.
Требование быть прилежным учеником не соответствовало мечтательной натуре Шагала – он был ленив, рассеян, неохотно сосредотачивался и всегда слушался лишь своей интуиции. По утрам отец грозил ему ремнем, поскольку он с трудом просыпался, ночью на него вопила мать, оттого что он жжет керосиновую лампу и не дает ей заснуть, делая вид, что занимается, в то время как все уже спят. Шагала интересовали только два предмета: на геометрии он «был непобедим. Линии, углы, треугольники и квадраты уводили <…> к колдовским горизонтам», а на уроках рисования его верховная власть была такова, что «не хватало лишь трона». Тем временем, каждый день заглядываясь на гимназисток, он стал ощущать некую лихорадку и много времени проводил в попытках приблизиться к окну, чтобы можно было получше их рассмотреть. Однажды его поймали за тем, как он посылал воздушный поцелуй женской фигуре вдали, за что был осмеян. Шагал так плохо занимался, что провалил выпускные экзамены и был оставлен на второй год. В конце концов в 1905 году он закончил гимназию, но не получил аттестата.
И все же влияние русской культуры давало о себе знать: Шагал начал писать стихи на русском и туманно рассуждал о художественной стезе, чтобы можно было убежать от стесняющей его жизни родителей. Поскольку он музицировал – играл на скрипке и пел, – то думал об учебе в консерватории. Родственники восхищались им, когда он танцевал со своими сестрами, он писал стихи, которым аплодировала вся семья, и потому мечтал стать танцором или поэтом. В тринадцать лет Шагал отошел от религии, он радовался, осознавая, что грешит, и жевал украденное яблоко в Йом Кипур, когда надо было поститься. Сделать выбор не составляло труда: «Молиться утром и вечером всюду, где бы я ни был, что бы я ни положил себе в рот, что бы я ни услышал, и немедленно творить молитву? Или спасаться бегством от синагоги и, отбросив прочь все книги и святую одежду, скитаться по улицам у реки?» Разрыв с традициями не привел к духовному кризису, Шагал никогда не задавался вопросом еврейской идентичности. Дома придерживались ритуалов иудаизма, но родители не настаивали на том, чтобы их дети соблюдали религиозные законы.