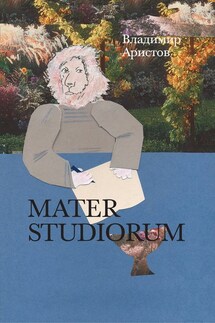Mater Studiorum - страница 13
Долго не мог он отдышаться, не сразу поняв, куда и зачем попал, потом все же догадавшись, что шло занятие по искусствоведению. Собственно его – вернее, Вертоградского – лекционный курс официально назывался (так предложил Осли) «Введение в эстетику», так что он недалеко ушел сейчас от предмета, хотя понятно, что размеренность и разумность семинара контрастировала с импровизацией его лекции.
Думал он, что лучше бы обозначить свой курс как «Основы философии», но не чувствовал он себя сейчас философом, да и не дорос он еще до этого звания, и в своем стремлении вернуть молодость через живую и юную воду знания рядом с молодыми лицами он чувствовал, что погружается в забытые свои времена, откуда, как оказалось, он не ушел до конца. И сейчас, словно бы омывая лицо световыми картинками в затененной аудитории, не понимая толком после лекции, о чем идет речь, все же чувствовал, как входит ему в глаза незнакомое знание. Он совершенно не мог сосредоточиться и несколько минут совершенно не включался в суть разговора. Вдруг он что-то стал различать – и только потому, наверное, что неожиданно обнаружил в том, что говорилось и показывалось, продолжение неявное своей лекции. В этот момент показывали световые репродукции работ художника Валентина Серова. Вот мелькнул занавес к «Шахерезаде» и затем подряд – Навзикая, Европа, Ида Рубинштейн. Не сомневался он потом уже, что увидел и сумел различить только то, что способен был воспринимать после своего неудачного введения в «Эстетику женского», как он сам назвал свою первую лекцию, но, конечно, никто из слушательниц так это не воспринял. Только преподавательница процитировала слова Репина о работе своего ученика, – о том, что на картине, изображающей танцовщицу, представлен гальванизированный труп, только успела сказать, что плоскостность и условность модерна не соотносится уже даже с Матиссом, у которого тогда присутствовала все же рельефность, как раздался голос, – его голос, который он услышал словно бы со стороны:
– Здесь Серов совместил голубой и розовый периоды Пикассо, верхняя часть картины серо-розовая, нижняя – голубая, с морской синевой, а женская фигура контурно, но и нарядно обнажена, и она на самой границе двух сред.
Все девические лица первых рядов изумленно повернулись в его сторону – валаамова ослица заговорила. Прикусил он язык, но поздно – единственно, чему он порадовался сразу, что, охрипший после лекции, он выкрикнул свою – неожиданную да и непонятно зачем брошенную реплику – неким юношеским фальцетом, в котором дрожало волнение, так что никто, наверное, не заподозрил в нем присутствие профессорского баритона, хотя та немота, которую он себе прописал как студенту с первого дня, была нарушена. Преподавательница, помолчав немного, взвесив его слова, но не удостоив особым вниманием и ответом, продолжала свою невероятно отчетливую и, по-видимому, тщательно отрепетированную и повторенную речь. Все же он понял, что только одна голова не повернулась в его сторону – это была Ira, ей достаточно было слуха, а зрение могло бы, наверное, сбить ее в том, что она услышала в его голосе. Он подумал, что студент должен слушать, профессор говорить, но вот он нарушил зарок.
Его отсутствие в качестве студента на первой лекции профессора Вертоградского не прошло незамеченным. В перерыве после семинара староста их группы Ira (мысленно иначе он ее уже не называл) подошла к нему и спросила (причем его поразило, что обратилась запросто):