Меж двух времён - страница 4
А. Л. Биркенгофу уже не удалось услышать многих из тех песен и былин, которые слушал Зензинов. Вот и мне уже почти через сорок лет после Биркенгофа досталась лишь одна из «досельных» песен. Старики поумирали, а былины и песни передавались из поколения в поколение только устно: до 30-х годов население здесь было поголовно неграмотным. Но говорили в начале 30-х еще на том же причудливом языке, что и двести лет назад. Я застала уже «следы» этого говора, в основном в речи стариков.
В 1928 году в поселке открыли школу. Построили ее, раскатав на бревна старую церковь. Преподавание велось на современном русском языке – учителя были люди приезжие. Якутский писатель Николай Алексеевич Габышев, учительствовавший в предвоенные годы, рассказывал мне о том, как старался научить детей говорить «правильным», то есть современным русским языком. В речи тех, кто окончил школу, сохранялись лишь некоторые черты исконного русскоустьинского говора.
Но сами люди, их быт, их привычки, их представления о мире в начале 30-х годов, судя по воспоминаниям А. Л. Биркенгофа, мало чем отличались от тех, которые застал здесь Зензинов в начале века. Время, казалось, стояло здесь – неподвижное, словно вмерзшее во льды и снега.
Перемены начались с появлением авиации – самолетов и особенно вертолетов.
В начале 30-х годов, когда сюда прилетел с разведывательными целями самолет и кружил над поселком, люди в панике побросали дома и бежали в тундру. В 60-х годах они пользовались и самолетом и вертолетом с такой же простотой и естественностью, как мы автобусом. Впрочем, первым колесом, которое они увидели «живьем», а не в кино и не на картинке, было как раз колесо вертолета.
Вообще коренные жители тундры – это явление, конечно, уникальное. В их вхождении в цивилизацию «постепенности» почти не было. Достижения современной цивилизации буквально свалились на голову людям, по образу жизни мало отличающимся от своих предков. Из-за страшной своей удаленности еще в середине века они мало что знали о другой, «тамошней» жизни. Железнодорожные рельсы и шоссейные дороги, поезда и машины, высокие каменные дома и заводы – да и вообще все, что составляет жизнь современного человека, они впервые увидели, когда в поселок стали привозить кинофильмы. В кино увидели они колосящиеся поля, горы, леса. Пришли к ним неведомые им доселе звуки: стук колес и шелест листьев, гудок поезда и пение соловья. Им открылись красота и многообразие мира. И то страшное, что было в нем: одними из первых фильмов, которые они увидели, были военные хроники. Единственное оружие, ведомое им до той поры, было охотничье ружье. Они настолько «не вписывались» в существующую жизнь, что во время войны здешних мужчин не брали на фронт.
Переломным годом в жизни индигирцев стал 40-ой год, когда вышло постановление Правительства о поселковании. Предписано было съезжаться в одно место и ставить общий поселок. До этого жили в рассыпанных «по лицу тундры» зимовьях, иногда по три-четыре семьи – это уже считалось поселением. Нередко – одна семья. Центром было Русское Устье – там было до десятка «дымов» – поселения считали не по домам, а по дымам. Место это для строительства нового поселка признали непригодным – берег сильно размывается весенней водой. Выбрали крутой берег на 20 километров ниже по течению. Как потом выяснилось – опять не слишком удачно: гора оказалась огромной ледяной линзой, которая по весне подтаивает и размывается ничуть не меньше, чем на старом месте. Однако в сороковом году переселили сюда жителей старого Русского Устья и приказали переселяться сюда всем из заимок, рассыпанных по необъятной тундре. Идея была понятна: приобщить людей к достижениям современной цивилизации, учить детей, снабжать централизованно товарами, наладить медицинскую помощь. Никто не думал о последствиях, к которым приведет такая ломка привычного, веками сложившегося уклада жизни.
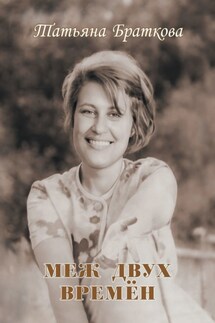

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



