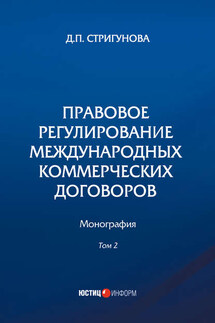Международное гуманитарное право - страница 50
По мере эскалации вооруженного конфликта, при наличии ответственного командования и установления антиправительственными формированиями такого контроля над определенной территорией, который позволяет вести скоординированные и продолжительные военные действия (ст. 1 Дополнительного протокола II), можно констатировать наличие внутреннего вооруженного конфликта высокой интенсивности[408]. Именно для регулирования таких вооруженных конфликтов предназначен Второй Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г.
Таким образом, в МГП традиционно сложилось деление вооруженных конфликтов немеждународного характера на конфликты низкой интенсивности и конфликты высокой интенсивности[409]. Вместе с тем такое деление уже не отражает всего спектра кризисных ситуаций, складывающихся в мировой практике государств. Практически все гражданские войны, как указывает Х.-П. Гассер[410], так или иначе связаны с международными событиями, и лишь за редкими исключениями внутренние конфликты не остаются «за закрытыми дверями». Воздействие третьих государств на конфликт может принимать любые формы, вплоть до вооруженного вмешательства. В результате международное соперничество превращается в «войну по доверенности», которая зачастую ведется в интересах сторонних государств. Международное право – в его общепринятом толковании – не запрещает вмешательство в конфликт другого государства (третьей стороны) на стороне и по инициативе правительства, в то время как участие в конфликте на стороне повстанцев рассматривается как незаконное вмешательство во внутренние дела соответствующего государства и, следовательно, как нарушение международного права. В международно-правовой литературе они получили наименование «интернационализированные немеждународные вооруженные конфликты».
По объему правового регулирования можно выделить две группы правоотношений, которые складываются между участвующими в конфликте сторонами. Так, статья 3, общая для всех Женевских конвенций, и Дополнительный протокол II 1977 г. регулируют правоотношения в вооруженных конфликтах между правительством и повстанцами, а также между другим государством (третьей стороной), принимающим участие в конфликте на стороне правительства, и повстанцами. МГП вступает в действие в полном объеме, когда имеет место вооруженный конфликт между государствами, принимающими участие в конфликте на обеих сторонах, а также между правительством и другим государством (третьей стороной), принимающим участие в конфликте на стороне повстанцев (см. приложение 11).
1.3. Доктринальные основы применения вооруженной силы и правовые средства урегулирования кризисных ситуаций
Международно-правовая позиция России в отношении принуждения, даже коллективного, представляется весьма сдержанной. Исключение составляют случаи, когда принуждение является средством обеспечения уважения международного права, если речь идет о сохранении мира, противодействии агрессии, прекращении вооруженных конфликтов. Россия выступает за повышение роли и расширение полномочий ООН в осуществлении принуждения, для чего может быть использован значительный арсенал средств, имеющихся в распоряжении ООН, включая ее вооруженные силы (ст. 41, 42 Устава ООН). Само осуществление принуждения и правовая регламентация этого процесса требуют достаточно четкого определения и разграничения юридических видов принуждения. Чаще всего к ним относят контрмеры