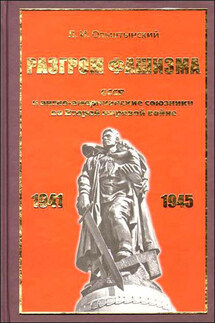МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ. Сборник - страница 9
11. – До самой весны Тимофей проходил на костылях. И только на «ПАСХУ» вышел на улицу, опираясь на палку, чтобы похристосоваться с соседями. Стоя у ворот смотрел, как хуторяне идут после всеношной службы в храме. Проходившие мимо останавливались, и по обычаю обращаясь к нему, говорили – Христос Воскресе! и Тимофей отвечал – Воистину Воскресе! и кланялся, приглашая зайти в хату и «Разговеться». Многие чтобы не обидеть хозяина заходили выпить чарку и отведать кулича и творожную «пасху». Трижды целовались и обменивались «крашенками» (яйцами, окрашенными луковой шелухой и отваром молодых листьев тополя). После обеда молодежь и детвора собрались на пасхальную забаву – «катать крашеные яйца» – брали дощечку, ставили на камень одной стороной и как с горки отпускали яйцо. Оно катилось и останавливалось, а следующий игрок, отпуская яйцо, старался направить его так, чтобы оно столкнулось с предыдущим. Если столкнулось – он забирал сбитое, и снова спускал с дощечки крашенку. Вроде бы незатейливое развлечение – а веселья хоть отбавляй! Рядышком на перевернутой вверх дном лодке сидели старики, греясь на солнышке, гуторили о своем. Они тоже за зиму насиделись по хатам, и сейчас поглядывая на голубое в облаках небо, дед Фёдор лениво поддерживая разговор, говорил – « Вясна – Тяпло!» – ужотко скоро на пахоту выезжать, а там и сеять пора придёт. Да! отвечал дед Никифор – пасха ноньче ранняя значит и «вясна» ранняя. Надоть до «Губатого» (восточный ветер) – отсеяться – а то все зерно сдует суховей треклятый. Вот и я о том же вторил ему дед Фёдор – почёсывая реденькую седую бороду и глядя, куда – то вдаль продолжал: Эх! Никишка – прошли наши годы, что годы – жизня прошла, только и остаётся на молодёжь смотреть, да свою молодость вспоминать. А оно вишь как! Думали, што сносу нам не будет. А всему Никифор есть начало и есть конец. В общем – круговорот в природе полный – одни рождаются – другие уходят…. Эх! Пойдём ещё винца выпьем, а то штой – то мы загрустили с тобой. И то правду гуторишь – пойдём по «мерзавчику» выпьем, нонче ж праздник Великий «ВОСКРЕСЕНЬЕ ХРИСТОВО» А што завтра будет – один ГОСПОДЬ знает. Они поднялись и пошли, опираясь на палки во двор к Никифору, где был накрыт стол ещё с самого утра.
12. – Через неделю все хуторяне уже были на пашне. Праздники закончились, и надо было сеять хлеб. Пахали в те времена в основном на быках. Рабочие быки хоть и упрямые, но силищи в них много. Пара быков запряженных в плуг могли спокойно вспахать не одну десятину земли. Рабочая лошадь не шла ни в какое сравнение с этими сильными и выносливыми тружениками полей. Да и не только полей – на быках, впряжённых в огромную повозку «арбу» – возили мешки с зерном, сено с заливных лугов и прочие грузы. Как на пахоту – так и на сев выезжали с ночевкой – выезжали не на один день. В хуторе в это время оставались только те – кто не мог хоть чем – то помочь в поле. Тимофей, оставив Катеньку на попечение своей матери, тоже выехал с Агашей и соседом Иваном – погрузив семена, бороны и другой сельхозинвентарь на арбу и привязав сзади арбы двух лошадей. Он еще прихрамывал – но надо было сеять хлеб – а помощи кроме как от соседа ждать было неоткуда. Но оказалось, что мир, не без добрый людей. Хуторяне, видя как тяжело, приходится ещё не окрепшему от ран Тимофею – закончив работы на своих наделах, пришли на помощь и за два дня с шутками и прибаутками засеяли и прикатали вальками, чтобы не раздуло ветром посеянное зерно. Вернувшись в хутор и отдохнув пару дней, по обычаю устроили праздник. Окончание сева было заделом нового урожая. И по старому – испокон веков соблюдающемуся обычаю на площади рядом с хуторским правлением накрывали столы. Атаман выкатывал из погреба бочонок с вином. Все несли из дома на праздник свою нехитрую закуску и конечно своё – домашнее вино. Бабы и молодки, быстренько накрывали столы, и атаман, взяв слово: поздравлял всех с окончанием весенних полевых работ. Выпивали по чарке и, закусив, начинали строить планы на осень. После пятой чарки дружно пели свои любимые песни. Точнее не пели а «играли» – На Дону песни играют. Один заводит – все остальные подхватывают и без всякой музыки раскладывают по голосам. На Дону песни играют не торопясь, тягуче и получается так душевно, что донские песни не спутаешь ни какими другими. До самой зари над хутором плыли необычайно нежные Донские напевы. А на заре уже мычали коровы, гремели подойниками бабы в коровниках. Пастух «Филька горбатый» играл на рожке незатейливую мелодию. Коровы сами шли на голос его рожка и он – собрав стадо – шёл впереди, а они как заворожённые шли с ним за околицу. За хутором он прятал за пазуху рожок и, взмахнув кнутом – который в его руках со свистом разрезая воздух, щёлкал так – что этот щелчок был похож на хлесткий выстрел «трехлинейки» – гнал стадо пастись по балкам, где было много сочной – молодой весенней травы. Филька в малом возрасте упал с дикой груши. С тех пор неправильно сросшиеся кости ключицы поднимали одно плечо, и казалось что у него и, правда, вырос горб. По этому, все на хуторе его и звали «Филькой – горбатым». Он привык к своему прозвищу и уже ни на кого не обижался. По уговору каждый двор по очереди кормил Фильку вечером ужином, а на день собирали узелок на «перекус» – обычно пару вареных яиц да кусочек сальца, краюха хлеба и бутылка молока. А осенью по окончанию выпаса – атаман выплачивал из общей хуторской казны – обговорённую ещё весной денежную плату.
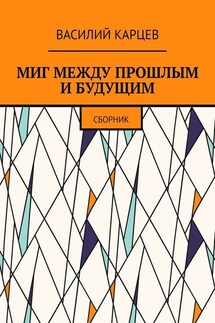

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)