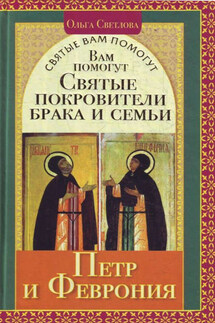Читать онлайн Вера Заведеева - Минувшей жизни злая кровь
© В. Ю. Заведеева, 2019
Пролог
Новый, 2011, год уже укоренился по всем календарям – западным и восточным, завершив неделю назад затянувшуюся праздничную круговерть китайским Кроликом. Что-то он принесет с собой людям, этот пугливый ушастый зверек? Кому какую судьбу назначит? Кому – тянуть привычную лямку безрадостных будней, кому – чваниться в неизбывном довольстве, кому – бороться и страдать, кому – вскарабкаться на собственную вершину бытия, кому – кубарем скатиться с нее, а кому – появиться на свет или обрести вечный покой. Для кого-то настанет время «разбрасывать камни», а для кого-то – «собирать» их.
Колючий февральский снег назойливо царапает лобовое стекло, заигрывая с усталыми «дворниками». Впереди, рассекая кромешную темень, выпучивается огненная лава, то вспыхивая сигнальными огоньками, то угасая. Неизбежное столичное злодейство – вечерний час «пик».
– Может, сирену включить, вдруг пропустят? «Скорая» все-таки…, – предложил врач без всякой надежды в голосе.
– Как же, жди. Разве что в канаву кубарем. Только и гляди, чтоб не зацепить кого… Могут и стрельнуть, – скрипнул зубами пожилой водитель.
Наконец свернули на нужную улочку, сплошь заставленную машинами – на газонах, тротуарах и на самой дороге, где встречающиеся авто, минуя друг друга, демонстрируют чудеса эквилибристики. «Скорую» удалось припарковать лишь в дальнем углу двора, рядом с мусорными контейнерами.
Врач, хмурый дядька неопределенного возраста, отправился с молоденькой фельдшерицей на поиски нужного подъезда. Железная дверь типовой панельной многоэтажки, неработающий домофон. Хорошо хоть лифт функционирует. На десятый этаж не набегаешься. В холле, конечно, темно – жильцы выжидают, у кого из соседей сдадут нервы и найдутся средства на новую лампочку. Но медики люди опытные – фельдшерица привычно включает большой фонарь, который теперь приходится таскать с собой на вызовы. Да и не только фонарь… Скоро до пистолетов дойдет…
«Опять одинокая старуха в “богатой” однокомнатной квартире, сильно за восемьдесят. И чего вызывают “Скорую”? Кто их вылечит от старости? Молодых надо спасать – мрут как мухи или погибают ни за что, ни про что». – Фельдшерица, лишь недавно перебравшаяся в Москву из далекой провинции, привычно плеснула масла в огонь застарелой нелюбви-зависти окраины к «жирующим» москвичам, которые держатся за свои квартиры зубами. А могли бы и поделиться с такими молодыми и полезными обществу людьми, как она.
– Что с вами?
– Болит все, вчера вот давление поднялось до 200, «Скорая» приехала, сделала укол и уехала. А сегодня все болит… рвота, понос… Соседка приходила… Дочерям пыталась дозвониться… Живут далеко… Старшая с маленьким внуком сидит, только завтра обещала. Наконец вечером объявилась младшая и вас вызвала…
– Чем бабушка страдает? Какие лекарства принимает? Есть анализы? Где предыдущая кардиограмма? – допрашивал врач стоявшую поодаль немолодую женщину.
«Младшая», начинающая пенсионерка с непроницаемо-постным лицом, ничего толком сказать не могла: «Она всегда стремилась к независимости – ни с кем и ни к кому. Сложный, неуживчивый человек, а у меня семья большая. Общаемся только по необходимости». Врач вертел больную во все стороны уже второй час и никак не мог выявить причину. Уколы не помогали. Давление почти в норме. Может, симулирует? Хочет, чтобы ее пожалели, понянчились с ней, как с малым дитем? Такое бывает с капризными стариками. Нервы у него завибрировали, а до конца дежурства еще целая ночь с беспокойным рассветом: к пяти утра начнут прощаться с жизнью сердечники.
Пролог
– Ты можешь показать точно, где у тебя болит? Сколько я могу тут с тобой канителиться? – шипел врач на старуху, забыв о том, что считал себя интеллигентом. – Ты тут выдумываешь чего-то, а у меня на соседней улице больной может помереть!
– Че, в больницу ее, што ль? – неуверенно спросила фельдшерица.
«Вот дура. Знает же, что есть негласный приказ начальства стариков в больницу не возить. Только в особых случаях… если родственники сообразительные», – злобствовал про себя врач, направляясь на кухню, где затаилась Младшая. Однако та его путаных речей про нищую зарплату и собачью работу не поняла. Или не захотела, проявив поразительное в таких ситуациях равнодушие. А старуха уже не вскрикивала и лишь тихо постанывала, совсем обессилев. Шел третий час бесплодных попыток унять боль. Раздраженный врач, вспомнив о нежелательной ответственности за возможный исход этого вызова, решил все-таки везти ее в больницу. От греха подальше.
Больную быстро завернули в халат, накинули на нее одеяло и потащили втроем к лифту. Внизу ее, на удивление довольно тяжелую, опустили, будто тряпичную куклу, прямо на бетонный выступ крыльца. Одеяло сползло. Голые руки и ноги повисли безвольными плетями, безразличные к обволакивающим их хлопьям снега. Врач побежал к машине, которой так и не удалось подобраться поближе. Шофер никак не мог совладать с носилками – это был его первый выезд на «Скорой».
Доживавшая свой век раздолбанная машина рванулась к шоссе и затряслась в сторону окружной. Младшая притулилась возле матери, держа ее за руку. Больная очнулась и равнодушно смотрела перед собой. Незаметно она отвернулась от дочери и затихла. Сидевший в кабине врач метнулся в салон и стал нащупывать у нее пульс. Машина уже въезжала в ворота больницы. Не дожидаясь, когда неторопливый охранник поднимет шлагбаум, врач взвалил на плечо старуху и припустил к приемному покою. Младшая бежала за ним, на ходу подбирая слетавшие с больной одежки.
В приемном покое он быстро «сдал» больную и мгновенно исчез. Старуха еле дышала. Подошел дежурный врач, сдерживая зевоту, мельком взглянул на вновь прибывшую и распорядился поднять ее в отделение.
– Поставим капельницу. Посмотрим завтра утром. Сделаем анализы. Сейчас уже одиннадцатый час, поздно, никого нет. Звоните завтра. Нет, оставаться вам здесь незачем. Завтра. Все завтра, – вынес свой приговор усталый доктор и направился в ординаторскую.
Глава 1. Судьбе навстречу
К середине 1944 года война откатилась уже на Запад. Из глубокого южноуральского тыла, день и ночь ковавшего будущую Победу, потянулись на свои пепелища эвакуированные из центральных областей страны. Возрождать жизнь в родных краях. Собирать осколки разбросанных войной семей и поджидать своих выживших в этой страшной мясорубке солдат на пороге родного дома.
В морозном январе 1942 года в большое русское село неподалеку от Златоуста, на северо-восточной окраине Башкирии, бывшей когда-то Уфимской губернией, привезли ленинградцев-блокадников, заморенных, неприспособленных к суровой жизни на уральской земле. Их, полумертвых, доставили на подводах со станции к сельсовету, откуда людей разобрали по домам жители села и окрестных деревень. «Ох, не жильцы они на этом свете», – качали головами встречавшие. И все же эти бледно-голубые тени выстояли, напитав духом своего великого города те края, где их приютил разноплеменный народ, деля с ними всю войну и крышу над головой, и последний кусок хлеба, и общее горе, и редкие радости. В спешке покидая его, ленинградцы увозили с собой, словно иконы, какую-никакую память о нем: книги, фотографии или открытки с городскими видами и репродукциями музейных сокровищ. В эвакуации им это очень помогало держаться, приобщая к высокой культуре местных жителей.
Село, где разместили некоторых блокадников, живописно раскинулось на высоком берегу реки Большой Ик среди бескрайнего океана вековых кедрачей и корабельных сосен. Когда-то здесь, в суровом, но благодатном краю, основали деревеньку русские переселенцы-«кунгуряки», выкупив землю у башкир рода «Бала-катай». Они, потомки поморов, бежали сюда из Пермской губернии в конце XIX века от невыносимой жизни в заводском рабстве у богатеев Демидовых на отравленной земле с мертвыми реками и озерами, наполненными ржавой водой, будто кровью. Башкиры, издавна заселившие самые плодородные равнины, продали бедолагам эти предгорья, которые сами не могли освоить. Вот так русская деревенька и оказалось в кольце башкирских поселений.
Вскоре этот изобильный край с обширными лесными угодьями, плодородной землей, полноводной рекой с хрустально-чистой водой, богатой рыбой, и работящим народом стал самым процветающим во всей Уфимской губернии. Деревенька разрослась, застроилась и превратилась в большое богатое село – центр самого крупного района, где и русские и башкиры, мирно соседствуя, стали самыми зажиточными хозяевами во всей округе. Там-то и открылась в 1876 году первая народная школа в губернии, чтобы учить местных ребятишек читать и писать. Перед Первой мировой ввели в ней пятилетнее обучение. И уже при советской власти, в 1936 году, выстроили для нее просторное деревянное двухэтажное здание – школа стала первой в районе десятилеткой.
Немногочисленные выпускники 1944 года сдавали последние экзамены. В открытые настежь окна второго этажа врывались дурманящие запахи цветущей черемухи, будоража предчувствием чего-то необыкновенного юные души. Скоро конец войне, конец школьным десантам на неоглядных колхозных полях, конец родительскому укороту! Они – уже взрослые! Впереди – такая замечательная жизнь! Можно всего добиться – только захотеть! «Молодым везде у нас дорога…», – как поется в песне. И, конечно, любовь…, обязательно романтическая, не такая, как у всех… Кто же о ней не мечтает? Но и со школой расставаться все же немного грустно.
Школьные учителя, в основном эвакуированные ленинградцы, волновались не меньше своих учеников: как-то сдадут экзамены их подопечные? Хорошо ли они их учили? Отплатили ли они добром родным этих ребят за приют, за то, что не дали приезжим умереть голодной смертью? Ведь некоторым из них – библиотекарям, музыкантам, артистам, писателям, художникам, служащим – пришлось самостоятельно постигать премудрости педагогики, полагаясь на свой жизненный опыт и помощь профессиональных коллег, среди которых была и вузовская профессура. Они старались вложить в учеников все, что знали и умели сами, и не только по своему предмету. Приросли душой к этим самобытным ребятам, по-крестьянски приметливым, хватким и работящим, которые прочно стояли на своей земле, но мечтали покорить весь мир за ее пределами. И все же этих учителей неудержимо тянет домой, в разрушенный Ленинград. Вот окончатся выпускные экзамены, и начнут они собираться в дальнюю дорогу.
Десятиклассница Зойка Попова была почти что хорошисткой и не слишком боялась экзаменов. Ее больше беспокоило то, удастся ли выцарапать справку для получения паспорта – без него никуда не уедешь. Парней-то сразу после школы в армию заберут, а оттуда дорога открыта во все стороны. Если вдруг на войне не убьют или не покалечат. Да уж, наверное, и не успеют они на войну-то. Сельсовет, конечно, может дать направление в институт и оформить все бумаги – ведь району нужны молодые кадры с высшим образованием. Зойкиной старшей сестре Марии такое дали… но только в ближайший сельскохозяйственный.
Мария, очень способная к математике, круглая отличница, учится в институте механизации и электрификации сельского хозяйства уже третий год в прокопченном разноцветными дымами уральском городе, живя в общежитии на тощую стипендию. В каникулы ненадолго приезжает домой подкормиться – скелет скелетом, изможденная, почерневшая материна любимица и «красавица». Но у родителей, кроме нее и Зойки, еще пятеро ненасытных ртов мал мала меньше. Всех надо поднять на ноги и тоже выучить – ученье-то в старших классах платное. А что ждет сестру после института? Грязная машинно-тракторная станция с грубым мужичьем? Нет, Зойке такая радость не нужна. У нее талант. Голос. Колоратурное сопрано, как говорит живущая у них в доме библиотекарша-ленинградка. Зойка и на школьных вечерах пела и даже в клубе выступала. Ей надо пению учиться. В консерватории. И обязательно в Москве. Где же еще? Она так решила. Не в колхозе-совхозе же всю жизнь прозябать?