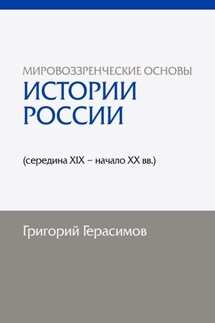Мировоззренческие основы истории России (середина XIX – начало XX вв.). 2-е изд., сокр. - страница 27
Наибольший ущерб развитию творческой православной мысли на рубеже веков нанес обер-прокурор К. П. Победоносцев, который был уверен, что «вера крепка и крепится нерассуждением, а искуса мысли и рефлексии выдержать не сможет». Богословия Победоносцев решительно не любил и боялся и об «искании истины» отзывался всегда с недоброй и презрительной усмешкой. Духовной жизни не понимал, но пугался ее просторов. Отсюда вся двойственность его церковной политики. Он ценил сельское духовенство, немудреных пастырей наивного стада, и не любил действительных духовных вождей. Взгляды Победоносцева определяли его действия. При нем была стеснена свобода церковной печати. Лучшие из богословских изданий под давлением духовной цензуры в начале 90-х годов были прекращены. В конце концов, Победоносцеву удалось внушить русскому духовенству, что богословие не принадлежит к существу русского православия, поскольку простой народ спасается без всякого богословия, и спасается лучше, чем умствующие интеллигенты26.
Поскольку православие являлось основой русского мировоззрения, то неразвитость его ядра – богословия, не позволяла обществу успешно решать наиболее важные проблемы, ставившиеся под влиянием новых идей в науке, технике, культуре, экономике.
Причины слабого идейного влияния РПЦ на общество. Во второй половине XIX – начале XX вв. происходит ослабление идейного влияния Русской православной церкви на российское общество.
К объективным предпосылкам снижения идейного влияния Церкви следует отнести и изменение состава населения России в результате территориального расширения и включения в состав империи неправославных народов. Западные области, присоединенные к России, имели не только многочисленное еврейское население, проповедовавшее иудаизм, но также католиков и униатов, подчинявшихся папе и находившихся в ведении Римско-католической церкви, а также протестантов, по большей части лютеран. Здесь Русская православная церковь оказалась в непосредственном соприкосновении с западными христианскими исповеданиями, более быстро приспосабливавшимися к меняющимся социальным условиям. На многие социальные вопросы, в силу своей свободы, они давали ответ быстрее, чем РПЦ, зависевшая от государства и находившаяся в подчиненном состоянии.
Согласно отчету обер-прокурора Святейшего синода за 1912 год, в империи значилось почти 100 миллионов православных. Но, как считает историк И. Смолич, ввиду того, что большинство старообрядцев и сектантов официально выдавали себя за православных, из этого числа следует вычесть приблизительно 15 миллионов. Тогда окажется, что их число составляло около половины всего населения.
Если к началу синодального периода «господствовавшая» Православная церковь обладала значительным численным перевесом сравнительно с другими исповеданиями, то к концу XIX и началу XX вв. можно говорить лишь о количественном равновесии тех и других. С этого времени Православная церковь являлась господствующей только в силу того правового статуса, который был придан ей законами государства, утратив возможность ссылаться на численность верующих. «Русская церковь» превратилась в «Православную церковь Российской империи». Теперь она находилась не в стране, практически однородной в конфессиональном отношении, а в многоконфессиональной империи. Та внутренняя связь между Церковью и государством, которая имела решающее и притом положительное значение для Московской Руси, стала теперь в известном смысле лишь формальной, декларированной государственными законами