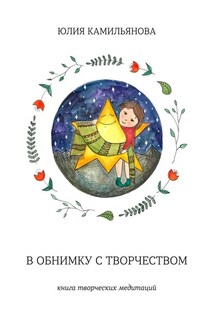Многомерный образ человека: на пути к созданию единой науки о человеке - страница 27
>Рис. 2. «Интеллектуальные изобретения» биологической эволюции. «Авторы изобретений» и «даты приоритетов» представлены довольно условно.
Естественно, что такие исследования – это огромный фронт работы, и задачу построения теории происхождения мышления, задачу моделирования когнитивной эволюции можно пока рассматривать как сверхзадачу. Тем не менее эта задача очень интересна и очень важна с точки зрения развития научного миропонимания. Исследования этой проблемы могли бы обеспечить определенное обоснование применимости нашего мышления в научном познании, то есть укрепить фундамент всего величественного здания науки. Чтобы вести эту работу серьезно, целесообразно идти именно по пути построения математических и компьютерных моделей когнитивной эволюции.
Но прежде чем обсуждать модели, давайте посмотрим, кто еще думал над близкими вопросами. Проследим цепочку: Д. Юм → Кант → Лоренц.
2. Д. Юм → Кант → Лоренц
В «Исследовании о человеческом познании» (1748) Давид Юм подверг сомнению понятие причинной связи [3]. А именно: он задался вопросом: почему когда мы видим, что за одним явлением А постоянно следует другое В, мы приходим к выводу, что А является причиной В? Например, почему, когда мы наблюдаем, что солнце освещает камень и камень нагревается, мы говорим, что солнечный свет есть причина нагревания камня?
Фактически Юм задался вопросом: что заставляет нас делать выводы о происходящих в природе явлениях? Что лежит в основе этих выводов? Юм попытался понять, откуда мы берем основание заключать, что А есть причина В. Он посмотрел на этот вопрос, как он пишет, со всех сторон и не нашел никакого другого основания, кроме некоторого внутреннего чувства привычки, внутреннего свойства, которое заставляет нас утверждать, что если за А постоянно следует В, то А есть причина В. И это внутреннее чувство заставляет нас после того, когда мы сделали такое умозаключение и снова видим событие А, ожидать, что за А вновь последует и событие В.
Юм взглянул на наш познавательный процесс со стороны, извне. Он как бы вышел на некий метауровень рассмотрения наших собственных познавательных процессов и задался вопросом о том, откуда взялись эти познавательные процессы и почему они работают.
Острота сомнений Юма была в том, что он задался вопросом о принципиальной способности человека познавать мир.
Остроту сомнений Юма очень хорошо почувствовал Иммануил Кант. Но Кант также видел мощь и силу современной ему науки. Тогда уже была глубокая, серьезная и развитая математика, мощная ньютоновская физика, давшая картину мира, которая позволяла объяснить множество явлений на основе немногих четких предположений, использующая многозвенные и сильные математические дедуктивные выводы. Что было делать Канту? Подвергнуть сомнению все эти познавательные процессы? И, развивая сомнения Юма дальше, отвергнуть всю науку? Это же драма!!!
Конечно же, Кант, как научно образованный человек, не стал отвергать современную ему науку, а постарался разобраться, как работают познавательные процессы. В результате появились знаменитая «Критика чистого разума» [4] и ее популярная интерпретация – «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться, как наука» [5]. Кант провел исследование познавательных процессов в определенном приближении – приближении фиксированного мышления взрослого человека. Он не задавался вопросом,