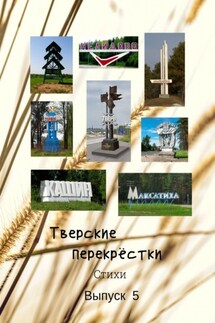Modus moriendi. Католическое сопротивление в Чехословакии, 1968-1989 гг. - страница 8
Деформации, которые в прошлом постигли общественную, культурную и религиозную сферы жизни нашей страны, мы осуждаем и требуем скорейшего упорядочивания отношений между нашим государством и церковью к удовлетворению обеих сторон»46.
Как замечает Ярослав Цугра, «без сомнения, сама проблематика церкви в этот период заслуживает отдельного научного исследования – даже беглый взгляд на документы и записи о деятельности отдельных церквей свидетельствует о силе позитивной энергии, которую они могли задействовать в поддержку процесса демократизации и идеи социализма с человеческим лицом», и тут же он ставит вопрос: «Может быть, христиански мыслящим политикам, как и церквям, идея демократического социализма была существенно ближе, чем сегодня обычно допускается? И то, что мы не можем с уверенностью ответить сегодня на этот вопрос, приводит нас к мысли о необходимости дальнейшей исторической работы по этой теме»47.
Возможно, впрочем, что авторы документов, о которых говорит чешский исследователь, руководствовались другими соображениями: они просто стремились «учесть психологию адресата» – как считал Мадр, не слишком продуктивны были бы «сплошные требования без позитивных предложений католиков способствовать предполагаемому оздоровлению государства»48.
7 февраля 1968 года ряд епископов и капитульных викариев49 (Э. Нечей, А. Лазик, Ф. Томашек; Ш. Ондерко, Э. Олива) направил К. Гофману, министру культуры и информации, текст, который они в дальнейшем хотели передать А. Дубчеку50. Уловив возникшую угрожающую тенденцию, 4 марта К. Гофмана навестил и Йозеф Плойгар, глава ДКДМ (Движения католического духовенства за мир, созданного в 1950 г.), чтобы заверить его в готовности движения поддержать процесс демократизации51. В первой половине марта все больше священников и мирян напрямую обращалось со своими требованиями к правительству. Верующие требовали возвращения в епархии епископов, лишенных государственного согласия на пастырскую деятельность, добивались реабилитации и освобождения тех клириков и мирян-католиков, которые до сих пор находились в заключении, продолжения переговоров между государством и Ватиканом, обновления Греко-католической церкви, отказа государства от административных вмешательств в жизнь церкви. Во всех епархиях проходили стихийные собрания священников, которые выражали недоверие президиуму лояльного властям Движения католического духовенства за мир и требовали полной кадровой замены в редакциях католических газет, на кафедрах богословских учебных заведений, а также того, чтобы церковь представляло не провластное движение, а епископы. Резолюции того времени написаны вполне в духе идеи «социализма с человеческим лицом»: «Мы полностью поддерживаем намерения, высказанные на декабрьском и январском пленумах ЦК КПЧ и, как полноправные граждане ЧССР, объявляем, что идея социализма принадлежит и нам, и мы отдаем ей все свои силы. Деформации, которые в прошлом постигли общественную, культурную и религиозную сферы жизни, мы осуждаем и требуем скорейшего упорядочивания отношений между нашим государством и церковью к удовлетворению обоих сторон»