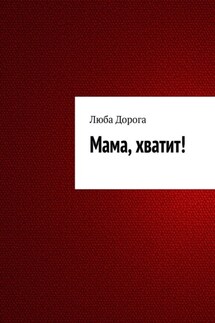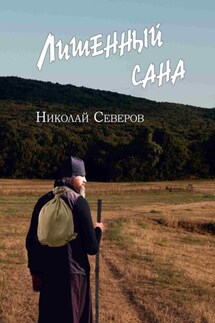Мои печальные победы - страница 65
Одним словом, старорежимный умный еврей Самуил Кауфман при царе жил «по Розанову», который считал, что евреям в Российском государстве можно находиться лишь у подножия трона, но ни в коем случае не претендовать на него и на высшие государственные должности.
Дезик, видимо, понимал эту историческую реальность и по-своему даже осуждал соплеменников, ставших то и дело во время и после революции нарушать этот неписаный закон:
«Тут были и еврейские интеллигенты, или тот материал, из которого вырабатывались […] многотысячные отряды красных комиссаров, партийных функционеров, ожесточенных, одуренных властью… Им меньше всего было жаль культуры, к которой они не принадлежали».
Здравые суждения. Но в поэзии этой темы Давид не касался. Солженицын был прав, когда написал: «Еврейская тема – в стихах Самойлова отсутствует полностью». Однако из совершающейся вокруг тебя истории, из окружения не выскочишь, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», как говорил классик. И конечно же, Самойлов не мог, то ли в силу давления среды, то ли из-за особенностей своей легкомысленной натуры обладать убеждениями отца. С волками жить – по-волчьи выть. Законы стаи, компашки, среды властно давили на гибкую психику поэта.
* * *
И тем не менее остаться в истории литературы русским поэтом Дезик жаждал. В середине 90-х годов я получил по почте из Америки книгу мемуаров моего бывшего знакомого литератора Давида Шраера-Петрова «Москва златоглавая». Я его помнил по 70-м годам и был с ним если не в дружеских, но и не во враждебных отношениях, и «Москву златоглавую», посвященную цэдээловской писательской жизни, прочитал с интересом. Поэтом Давид Петров был никудышным, но тщеславным, и сущность его воспоминаний заключалась в том, что советская власть не давала ему выразить полностью его еврейство и тем самым душила как поэта… В главе о Давиде Самойлове он подробно вспоминает, как пытался разжечь в душе Дезика огонек еврейского национального самосознания, как Дезик отчаянно сопротивлялся его оголтелому натиску и как в конце концов дело кончилось их полным разрывом и отъездом Петрова в Америку, где его «национальное самосознание» расцвело пышным цветом. А отношения Шраера с Самойловым в «Москве златоглавой» изображены так:
«Я заговорил с ним о реальной возможности писать и публиковать в предполагаемом русскоязычном еврейском журнале стихи и прозу русских писателей еврейского происхождения… Самойлов сделался грустен и все оглядывался на Пушкина, хотя мы были почти у Никитских ворот. Я не унимался: «Ведь у каждого из нас, начиная с Маршака, Сельвинского, Алигер, Слуцкого есть такие стихи…» «У меня нет таких стихов, Давид», – сказал он и поспешил к остановившемуся троллейбусу…».
А когда Петров в 1979 году подал документы на выезд из СССР и его книгу вычеркнули из планов издательства, у него потребовали вернуть писательский билет и лишили права покупать книги в писательской лавке, то он бросился за помощью и советом к Самойлову. Но Дезик холодно сказал ему: «А на что вы рассчитывали, Давид? Вы разорвали с системой. Система не прощает…» Он проводил меня до порога».
Настоящий же момент истины в их отношениях произошел незадолго до отъезда Шраера на Запад. Он приехал попрощаться с Дезиком в Пярну, где в этот день проходил поэтический вечер Самойлова, после вечера они случайно встретились.





![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)