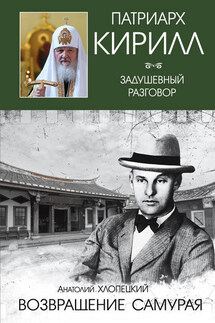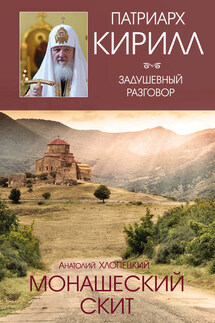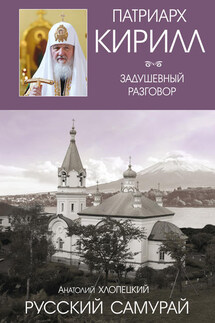Монашеский Скит - страница 24
Взял Степан под будущий урожай большой краткосрочный кредит в частном банке – на постройку современного тока с сушильным хозяйством. И расплатился бы он и с кредитом, и с процентами, да только год выдался неурожайным… В такой не только все зерно выращенное отдать нужно, так еще и имущество общества ликвидируй – да и то рассчитаться не хватит! Ждать кредиторы соглашались, только вернуть следовало большую часть долга. Вынь да положь денежки, иначе даже банк окажется в прогаре.
Как часто случается, вопрос о кредите решали вместе, всем обществом, а в виноватых оказался один Степан: не додумал, не рассчитал, теперь же всех разорить хочет! Нужно еще посмотреть, мол, каким образом он кредитные деньги расходовал – может, они и к рукам прилипли?! Назначили ревизию.
Люди от Степана при встрече отворачивались. Даже Наталья в сторонку норовила отойти: вдруг с вором связалась? Позор на всю станицу.
Пришел Степан ко мне.
Как сейчас вижу: стоит в воротах смурый, похоже, хмельной…
Тяжелый у нас вышел разговор.
– Если, – говорю, – ты за деньгами ко мне пришел, так зря. Таких денег у меня нету. Да и если бы были – как можно давать взаймы человеку, у которого и без того невыплаченный кредит на горбу висит?
– Петр, – говорит он, а сам аж к земле гнется, – тут не только деньги, тут мое честное имя на кону стоит. – Вскинул он голову, прямо в глаза мне взглянул, – Ты же меня сызмальства знаешь, не вор я. Бывало разное, но в этом я не грешен. Председатель ревизионной комиссии – твой бывший зам по райсовету, поговори с ним. Твоей поруке люди поверят…
– Сызмальства много воды утекло, – отвечаю. – Я ныне и за себя не всегда поручусь.
– Что же мне делать, Петр? – тихо спрашивает Степан.
И тут будто толкнул меня невидимый глазу окаянный «помощник»:
– Вешайся! – говорю.
Господи, Боже мой, Ты мне свидетель… Сколько раз мне хотелось вырвать подлый язык, вымолвивший такое!
Но слово – не воробей.
Повернулся Степан и медленно, словно над каждым шагом размышляя, побрел со двора…
Мне бы кинуться вслед, окликнуть его, вернуть.
Но я – калитку за ним с силой захлопнул…
Аккуратна другой день загудела станица: Марченков Степан на общественном току повесился, в новом сушильном цехе!
Толковали: мол, слабаком оказался, судачили – тюрьма ему светила по итогам ревизии.
Но я твердо знал, кто убийца Степана.
Так же верно, как если бы веревку намылил и сам голову его в петлю засунул!
На похоронах не был – залег в сеннике, поставил бутыль самогона рядом и устроил себе суд, а Степану поминки. И выходило, что одна мне по совершенному суду дорога – следом за Степаном. Может, я так бы и поступил, да нашла меня в сеннике Наталья. Села у порога, голову рукой подперла и говорит:
– Горе заливаешь? Не знала я, что вы со Степаном такие дружки были…
Ни слова в ответ не произношу, только головой мотаю, потому что в глазах двоится.
Помолчав немного, Наталья продолжила:
– Не верится мне, что украл он чего-то… Не такой он был.
Тут меня прямо подбросило:
– Ты бы, – кричу во всю мощь легких, – эти слова не мне, а другому мужику говорила. Да не сейчас, а пока он жив был!
Усмехнулась она да ласково отвечает:
– Так ведь и ты, Петенька, тогда молчал. Степана же, поди, и при тебе худым словом поносили.
Слово за слово – замахнулся я на нее.
Но ударить рука не поднялась, расплакался я, как дите малое…
Вот здешние отцы говорят: хорошо это, мол, дар слезный – от раскаяния. Только, думаю, плакал я больше не от раскаяния, а от водки: спьяну, значит, да от жалости к самому себе.