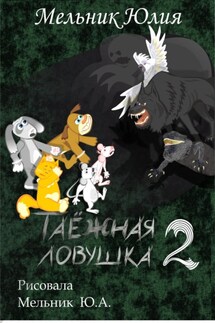Моральное воспитание - страница 6
Что же привлекло внимание Дюркгейма к воззрениям и трудам всех вышеназванных социальных ученых? Что заставило его объединить в одной рубрике представителей разнородных научных дисциплин, в основном далеких от собственно этической проблематики? Ответ носит вполне очевидный характер: соответствующие объекты своих научных дисциплин, будь то экономика, право или психика, они изучали в тесной связи с моралью. Мораль же, в свою очередь, они трактовали как социальное явление и социальную функцию. Таким образом, исследуемые институты оказывались включенными в рамки определенных обществ, изучались не как самодовлеющие явления, не как выводимые из некой общей идеи и (или) сознаний и стремлений индивидуальных акторов, а из отдельных обществ с их особенностями, проистекающими из их исторического прошлого, традиций, нравов, психических черт, институтов и т. п. Этот социальный релятивизм в исследованиях немецких социальных ученых был отчасти связан с довольно туманным, отчасти мистическим, но традиционно популярным в Германии со времен романтизма и классической идеалистической философии понятием «дух народа» (“Volksgeist”). Этот «дух» в «психологии народов», разрабатывавшейся Лацарусом, Штейнталем и Вундтом, стал трактоваться как вполне научное понятие, как явление, воплощенное в определенных культурных образцах, которые можно исследовать посредством индуктивного метода.
Дюркгейм обращал внимание и на то, что преподавание морали (этики) в Германии, в отличие от Франции, носило социально-практический, прикладной характер: «Мораль не предстает больше как нечто абстрактное, инертное и мертвое, созерцаемое безличным разумом; это фактор коллективной жизни»[32].
Для Дюркгейма все это было важно потому, что таким образом в качестве основной мировоззренческой сущности в науках о человеке возрождалась и утверждалась идея общества и социальной природы различных явлений, в частности морали. Особое значение, с его точки зрения, данная идея имела потому, что во Франции дорогая для него идея общества в это время в различных социальных науках оказалась в тени.
Вообще, в конце XIX в. французским ученым немецкая наука представлялась гораздо более прогрессивной и современной, чем их собственная, в том числе и в отношении ее организации и методологии. Несмотря на еще не зажившую рану, причиненную поражением в войне с Германией 1870–1871 гг., ориентация на немецкую науку в то время была явлением вполне «нормальным», распространенным и не осуждалась в стране за «непатриотизм». Наоборот, ее считали орудием, направленным против самой Германии. Не случайно в 1885–1886 гг. Дюркгейм побывал в научной командировке в Германии с целью ознакомления с тамошним состоянием исследований и преподавания в области социальных наук; после возвращения он опубликовал две обзорные статьи по этой теме. Там же с годичной командировкой побывал его последователь и ближайший сотрудник Селестен Бугле, испытавший влияние Георга Зиммеля и издавший в 1896 г. книгу о социальных науках в тогдашней Германии[33].
Но, обращаясь к немецкой науке в поисках идей общества и науки о нем, Дюркгейм хотел лишь «вернуть» во Францию то, что, с его точки зрения, ей когда-то принадлежало, но затем было утрачено. Он с грустью констатировал, что социология, зародившаяся во Франции в сочинениях Монтескье, Руссо и Конта, все больше становится явлением британским (прежде всего в трудах Герберта Спенсера) и, главным образом, немецким. «Как жаль, – писал он в 1885 г., – что это интересное движение так мало известно и имеет так мало сторонников у нас! Происходит так, что социология, будучи по своему происхождению французской, все более и более становится немецкой наукой»