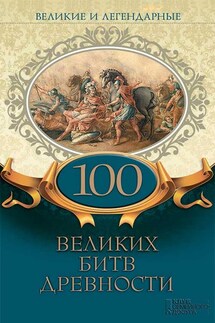Мой дед расстрелял бы меня. История внучки Амона Гёта, коменданта концлагеря Плашов - страница 5
К кабинету психотерапевта я прихожу точно к назначенному времени. Мне необходимо выяснить, какой она тогда поставила диагноз, действительно ли это была депрессия или что-то еще серьезнее. Как она оценивает мое состояние сейчас? Врач успокаивает – тогда она диагностировала именно депрессию. Она добавляет, что, учитывая вопрос, который беспокоит меня сейчас, мне лучше обратиться к ее мюнхенскому коллеге Петеру Брюндлю.
Психоаналитик Петер Брюндль прекрасно помнит Дженнифер Тиге. «Ко мне пришла уверенная в себе, высокая, красивая женщина и задала конкретный вопрос: как принять семейное прошлое». Брюндль – пожилой мужчина в черном костюме, с седой бородой. Он принимал клиентов в доме старой постройки в Мюнхене, и среди них уже было несколько внуков нацистских преступников. Брюндль говорит: «Насилие и жестокость оставляют глубокий след, который ощущается следующими поколениями. Причем боль приносят не только сами преступления, но и их замалчивание. Этот злосчастный обет молчания в семьях нацистов передается потомкам».
Вина не наследуется, в отличие от чувства вины. По мнению Брюндля, дети преступников бессознательно передают отпрыскам свои страхи, чувство стыда и вины. С этим сталкивается гораздо больше семей в Германии, чем принято думать.
Случай Дженнифер Тиге стоит особняком, поскольку она перенесла двойную травму: сначала приют и удочерение, а потом знакомство с семейной историей.
«Госпоже Тиге крепко досталось, – считает Брюндль. – Даже ее появление на свет можно счесть провокационным, поскольку Моника Гёт родила ребенка от нигерийца. Для Мюнхена начала 1970-х годов это воспринималось как из ряда вон выходящее, а в случае Моники Гёт – дочери коменданта концлагеря – и вовсе неслыханное».
Внуки нацистов, как правило, приходят к Петеру Брюндлю с другими проблемами: депрессией, бесплодием, расстройствами пищевого поведения, страхом неудачи в профессии. Психоаналитик советует им кропотливо изучить прошлое и срубить семейное древо лжи. Только после этого они смогут жить своей, настоящей жизнью.
Петер Брюндль рекомендует обратиться в Университетскую клинику Гамбурга, в Институт психиатрии. Но специалист, к которому он меня направил, не отвечает на звонки. С каждым днем, проведенным в ожидании, я все больше отчаиваюсь. Мне и правда нужна профессиональная помощь, родным тяжело со мной. Я периодически завожусь, срываюсь на Гётца и на детей. Не могу взять себя в руки, не справляюсь.
Как-то раз прямо с утра я начинаю плакать. Сыновья спрашивают: «Мамочка, ты чего?» Всхлипывая, отвечаю: «Ничего» – и мчусь в отделение неотложной психиатрической помощи при Университетской клинике. Дежурный врач выписывает антидепрессанты. Начинаю их принимать в тот же день.
Через несколько недель я немного восстанавливаюсь. Наконец-то записываюсь к тому психотерапевту по рекомендации. Он встречает меня в безликой приемной. Сразу распознает внутреннюю боль. Когда я рассказываю ему свою историю, он плачет вместе со мной. Становится легче. Больше я не видела у него такой реакции, но в следующие месяцы он всегда рядом.
Снова начинаю бегать. Я люблю находиться наедине с собой. Гулять, выходить на пробежку. Мне очень нравится одна тропинка в лесном массиве Гамбурга. Я бегу в тенистом лесу, дальше по полям, мимо конских пастбищ, потом через небольшой поселок, где в клумбах прячутся садовые гномы. В этом демонстративно идеальном мире есть что-то трогательное. После пробежки у меня ясная голова.