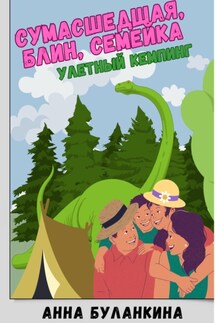Мой сенбернар Лондон - страница 6
Лондон как-то с самого начала понимал, что есть правила. Не знаю, конечно, но временами казалось даже, если б мы даже и не предложили ему правила, он все равно потребовал бы их. Он хочет жить в осмысленном, четко структурированном мире. А те элементы мира, что относятся к хаосу, например, бродячие собаки, люди, размахивающие руками на улице, вообще все, кто подпадает под категорию «чужие», категорически им отвергались. Правда, когда началась дрессировка, Лондон вполне мог решить, что мир оказался слишком уж организованным, а правила могут быть весьма утомительными.
И еще одна добродетель нашего Лондона – он не изгрыз, пока рос, ни одной вещи в квартире. Вообще ни одной! Я принес ему большую палку-рогатину толщиной с руку примерно. С этой рогатиной связана вот какая история, точнее, история могла бы быть связана, чуть было не произошла. Палка лежала на балконе у Евгении Арнольдовны. Она тщательно завернула мне ее в какую-то плотную ткань зеленого цвета. Я собрался уже уходить, а путь от дома Евгении Арнольдовны до автобусной остановки лежит мимо комплекса зданий, где то и дело проходят разные выставки, форумы и т. д. Выставка, на которой я и приобрел Лондона, тоже проходила там, но в этот день там как раз ждали приезда премьера или кого-то еще в этом роде. И я вдруг не без ужаса вижу – рогатина завернута так, что самым что ни на есть подозрительным образом напоминает тщательно упакованное ружье или какой-нибудь карабин: рога, как будто приклад, остальное, как ствол. Поделился своими сомнениями, Евгения Арнольдовна раздражилась (она всегда чуть что раздражалась), дескать, иди, не выдумывай, нечего демонстрировать тут свое богатое воображение, сойдет и так. А как пойдешь? Там наверняка на крышах снайперы, а тут я с «ружьем». Посмеялся, конечно, но взял такси, поехал в объезд.
Дома торжественно распаковал рогатину. «Держи, Лондон, я из-за нее рисковал». Проинструктировал зверя – только это и можно грызть. Он так и понял. С энтузиазмом принялся за рогатину. Довольно быстро палка рогатиной быть перестала. Лондон, под настроение, с воодушевлением обрабатывал то, что от нее осталось, а бывало, под другое настроение, неторопливо, лежа на своем месте (на своем законном месте), держа палку в пасти за комель, меланхолично жевал ее, как сигару – джентльмен в клубе – во всяком случае, в соответствии с нашими киношными представлениями о викторианской Англии.
А мы-то, опять же (в который раз!), наслушавшись рассказов-страшилок собаководов, были морально готовы остаться без стульев, ножек стола и тапочек. Действительно, кто-то, дабы уберечь мебель, мазал ее аджикой – всю (!), кто-то прятал тапочки поближе к потолку. А были и такие, для кого вещь оказалась важнее собаки, кто делал выбор в пользу вещи. Я же отшучивался в том духе, что живое по своему онтологическому статусу выше неживого, следовательно, Лондон заведомо важнее любого предмета интерьера, любой одежды и прочего. Здесь, как ни странно, Евгения Арнольдовна была со мной согласна. Только раз, уже будучи взрослым, Лондон сжевал тапок, и тапок этот принадлежал Евгении Арнольдовне, но причина была вполне уважительная. Я уехал на неделю. Для него это было впервые. И он съел тапочку от тоски. Евгения Арнольдовна эту неделю жила у нас, движимая желанием поддержать Аню, помогать по дому. И пострадала. Мои же вещи, по ее словам, он нюхал часами, ностальгически и благоговейно. Все время, что я был не дома, на душе неспокойно: а вдруг Лондон думает, что я не вернусь? Вдруг он считает, что не увидит меня никогда больше? Нет, он же верит в цикличность и осмысленность своего сенбернарьего времени, успокаивал я свою совесть. Времени, что всегда возвращает ему меня. А через час ли, через неделю – это уже второй вопрос. Это уже детали. Мне было спокойнее думать так. И в книжке я прочитал, что собаки воспринимают утраченное время не столь драматично, как мы. Но раз он сжевал тапочку, значит, разницу между днем и неделей разлуки почувствовал и тосковал. Но я верил в его опыт. А опыт был недвусмыслен – я ухожу для того, чтобы вернуться. Стало быть, Лондон ждал с надеждой и был уверен в своей надежде. К тому же, я все объяснил ему перед отъездом. Да и Аня ему сколько раз ему говорила, что я вернусь, и он наверняка понял. Не мог не понять! Значит, все не так уж и беспросветно было? Он верил мне, верил Ане. Но тапочку все же сжевал. Я же теперь старался как можно реже куда-либо уезжать.