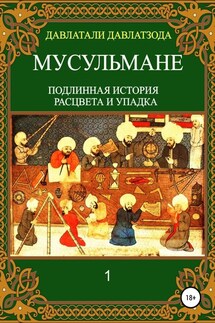Мусульмане: подлинная история расцвета и упадка. Книга 2 - страница 13
Летописцы тех времен, в том числе Джузджани в своём труде «Табакоти Носири», пишут, что Мухаммад Хорезмшах во время бегства в каждой местности, где проезжал, распоряжался, чтобы народ сам защищал свой город, укреплял замки и их защиту, строил дополнительные оборонительные сооружения, рыл рвы и траншеи вокруг городских стен. В каждом городе он назначал ответственных за подготовку обороны города: одного тюрка из числа военных и таджика из числа горожан[67]. Когда Хорезмшах прибывает в хорасанский город Газни, то видит огромное войско «из ста тридцати тысяч отважных воинов» при полном воинском снаряжении, готовых встать на защиту страны от монгольских завоевателей. Они излагают шаху желание пойти на врага, на что Хорезмшах не решается и отказывает воинам в этом предложении[68]. Вместе с тем, по свидетельству Рашид ад-Дина, «султан (Хорезмшах. – Д. Д.) всюду твердил, что народ должен защищаться как может, потому что сражаться с монголами невозможно»[69].
Другой важной причиной поражения государства Хорезмшахов были распри между оседлым населением городов, которое в основном состояло из таджиков, и военными из числа тюрков-кочевников. Воины-тюрки, по мнению Ибн ал-Асира, Ибн Халдуна и других авторов, не горели желанием защищать таджикское население городов. Ярким примером тому, как свидетельствуют Ибн ал-Асир и Ибн Халдун, является бегство большинства тюркских военных из Бухары и Самарканда уже на третий день сражения с монголами[70], хотя они были оставлены, как уже говорилось выше, именно для защиты этих городов Хорезмшахом.
По нашему мнению, тюркское войско, оставленное для защиты городов, на самом деле оказало горожанам медвежью услугу. Они начали подстрекать монголов, что в последствии обернулось трагедией… для горожан.
По существу, сражаться с испытанными в боях и вооруженными передовым по меркам того времени снаряжением китайского производства монголами для местных горожан, особенно после позорного бегства Хорезмшаха и его войска, было равносильно самоубийству.
Французский исследователь Рене Груссе в книге «Чингисхан» пишет, что во время нападения Чингисхана на большие города Средней Азии защитники этих городов – войска Хорезмшаха, состоящие в основном из тюрков, – увидев и услышав о чудовищных зверствах монголов в других городах, «…решили, что к ним, тюркам, монголы отнесутся как к соотечественникам, и на пятый день осады пришли в стан врага со своим багажом и, разумеется, с семьями. Возглавлял их дядя Хорезмшаха Туганхан»[71].
Рашид ад-Дин приводит другой пример провокационных действий хорезмшахского ставленника по имени Алпархан, «который вывел из замка тысячи самаркандских юношей сражаться с монголами, а сам тут же сбежал с поля боя»[72]. Очевидно, тюрки считали, что кочевой образ жизни и сходство языков сближает их с монголами, и на этой основе, возможно, к ним будет снисхождение и помилование, но они глубоко ошибались. Чингисхан не терпел предательства, он считал: тот, кто предал свою страну, предаст и его, и поэтому почти все они были уничтожены.
Но, несмотря на все провокации и предательства хорезмшахских сановников, гражданское население Мавераннахра мужественно сражалось против монгольских захватчиков. Для наглядности приведем рассказ Рашид ад-Дина из «Джами ут-Таварих»: «Тысяча мужественных самаркандских богатырей, защищая соборную мечеть города, начали ожесточенное сражение с использованием стрел и нефти. В ответ монголы также стали применять нефтяные стрелы. В соборной мечети начался пожар, и она полностью сгорела вместе со всеми, кто там находился»