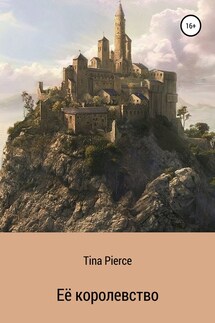Музыка, магия, мистика - страница 17
Представим себе, что мы держим в руках неизвестный музыкальный инструмент. Он не звучит, да и не может звучать, потому что для этого у него нет акустических предпосылок – резонатора и струн. И все же мы не сомневаемся, что это действительно музыкальный инструмент. Мы узнаем это по определенным пропорциям грифа, на котором натянуты струны, или по расположению высверленных звуковых отверстий в стволе духового инструмента. Иными словами, если бы он был предназначен для извлечения звука и снабжен струнами, то мы сразу могли бы рассчитать, что целая струна способна издавать основной тон, половина струны – октаву от основного тона, струна, укороченная на одну треть, – квинту и т. д. Нам не составило бы труда перенести свой опыт, приобретенный при игре на привычных музыкальных инструментах, на этот неизвестный инструмент, звучания которого мы не слышали. И если мы положим в основу своих рассуждений известный ряд отношений 1:2:3:4 и т. д., равный основному тону, октаве, квинте, кварте и т. д., то мы могли бы представить себе, как может звучать этот инструмент, и знатоку музыки это представление могло бы даже заменить настоящую игру на нем. Но разве знаток музыки не способен с помощью музыкального воображения «услышать» звучание несуществующего инструмента? Ведь ему достаточно иметь сведения о натуральном строе, чтобы знать: 2:3 – это квинта, 4:5 – терция, 8:9 – целый тон. Иначе говоря, все, что в пространственных пропорциях упорядочено в соответствии с этим строем, для него начинает звучать, ибо музыкант может в уме сразу образовать последовательность звуков квинты, терции и секунды. Для него «дивный лад во всех созданиях дремлет». Числа дают ему также сведения о том, гармоничен ли лад или он диссонирует.
Между числом и звуком существует «психический» контакт. Тон, который воспринимает наше ухо, – это воздействие колебаний, воспринимаемых нами как звук, которые можно посчитать. Последовательность звуков – это доступное измерению соотношение различных коэффициентов колебаний. Лейбниц объяснял музыку как бессознательный счет души (exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi). Шопенгауэр признает за ним – если отрешиться от эстетической стороны – правоту. Эдуард фон Гартман ввел понятие «математически привлекательного». Таким образом, единство разнообразного, регулярность, единообразие, симметрия – это понятия, принадлежащие как искусству, так и жизни, как миру идеальному, так и миру материальному. Правда, симметричный предмет еще не есть «музыка», но, пожалуй, он таит в себе духовные предпосылки для музыкального воплощения. Многочисленные отмеченные нами связи между музыкой и природой позволяют сделать вывод, что в этих сферах действуют одни и те же или, по меньшей мере, аналогичные законы. Генрих Фрилинг призывает «видеть повсюду законы музыки» [16]. «Таким образом, тайна творческого замысла раскрывается не как некая числовая схема, а как музыка! Если бы мы от природы не были зависимы от нашего зрения, от видения мира, то, вероятно, мы всюду бы слышали звук» [Там же, с. 140].
Стоит напомнить богатые смыслом слова Э.Т.A. Гофмана: «Музыканта, т. е. того, чья душа и сознание отчетливо и ясно воспринимают музыку, повсюду омывают мелодия и гармония. Когда музыкант говорит, что цвета, запахи, лучи являются ему в виде звуков, а в их переплетении он видит чудесный концерт, – это не просто образное сравнение, не аллегория. Подобно тому как слух, по выражению одного остроумного физика, – это „зрение изнутри“, точно так же для музыканта зрение становится слухом изнутри, т. е. самым сокровенным сознанием музыки, которая, вибрируя в унисон с его душой, звучит из всего, что видят его глаза» [145, с. 46].