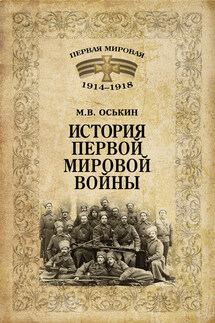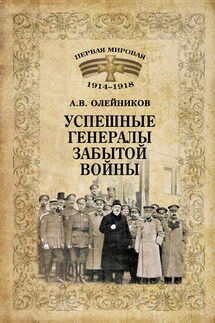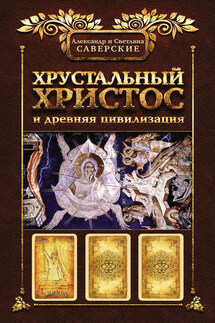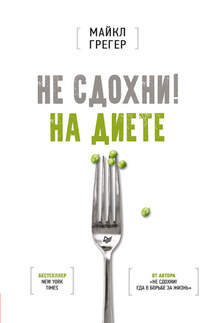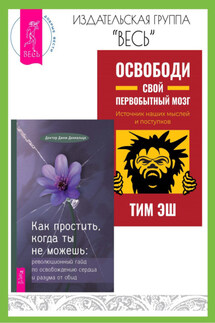На фронтах Первой мировой - страница 31
А что же Ренненкампф? Еще одна досадная страница в этой истории. Ренненкампф наконец получил указание от Жилинского помочь соседу. Он разворачивает свои корпуса, находящиеся в 125 километрах от войск Самсонова, направляет конницу Хан Нахичеванского и Гурко в тылы противника, но кавалерийский набег из-за неверной ориентировки ушел далеко в сторону. Ну не досадно ли? Ренненкампф докладывает о своей готовности выехать «лично вперед» и возглавить наступление на фланги и в тыл неприятеля. Но из штаба фронта приходит распоряжение оставаться с войсками на месте, так как армия Самсонова «отошла на свои первоначальные позиции к границе». А это уже не досада, а стыд и срам. Войска Ренненкампфа к моменту гибели самсоновских корпусов находились от них на расстоянии 50 верст. Так что обвинять его в неоказании помощи соседу в указанный момент просто несправедливо. Сколько же собак навешали на Ренненкампфа историки, хотя ошибку он и командование фронтом совершили раньше. Людендорф в своих воспоминаниях свидетельствует: «Если Ренненкампф сумеет использовать успех, одержанный при Гумбиннене, и будет быстро продвигаться вперед, то задуманное сосредоточение войск против 2-й армии станет невозможным, речь может идти лишь о задержке 2-й армии и об обдумывании пассивной обороны какой-нибудь линии восточнее Вислы. Огромная армия Ренненкампфа висела, как грозная туча на северо-востоке. Ему стоило только двинуться, и мы были бы разбиты». От себя добавим, что двигаться-то надо было сразу после Гумбиннена, а не 27 августа. Немцы превознесли Танненберг до небес. Мы же до сих пор не удосужились поставить и скромных памятников на месте наших побед под Гумбинненом и нашей трагедии в августовских лесах. Вот где стыд и срам!
Совершенно по-другому в первых сражениях складывалась обстановка на южном театре военных действий. Там развернулась Галицийская стратегическая операция, именуемая еще Галицийской битвой. Проходила битва с 18 августа по 21 сентября в течение месяца и совпадала по срокам со сражением на Марне. Марна справедливо воспета, особенно во Франции. Мы же не менее масштабную, кровопролитную победоносную Галицийскую битву ставим как бы во второй ряд. На Марне с обеих сторон сражались около 2 млн человек, в Галиции – более 1,5 млн (в Восточной Пруссии – всего 3000 тыс. – С.К). На Марне немцев отогнали на 50 км, в Галиции – на 200 км. После Марны немцы готовы были продолжать войну с нарастающим боевым потенциалом. После Галицийской битвы Австро-Венгрия вплоть до самого конца войны могла воевать только при прямой поддержке германских армий. Обо всем этом не следует забывать.
Итак, битва развернулась на фронте до 400 км. С обеих сторон принимали участие девять армий: пять русских (4, 5, 3, 8 и 9-я); четыре австро-венгерские (1, 4, 3 и 2-я), армейская группа Кевеса и германский ландверный корпус Войрша. Важно отметить несколько моментов. Прежде всего, то, что сама битва состояла из нескольких взаимосвязанных операций, носивших характер встречных сражений. Наступали и австрийцы и русские. Русские, основываясь на известном им плане Редля, надеялись захватить основную группировку войск противника в пограничной полосе, окружить и разгромить ее, не дав отойти к Карпатам. Но австрийцы развернули войска значительно западнее, что и привело к фронтальному столкновению. Досадная оплошность, но и австрийцы просчитались. Они вообще потеряли целую нашу 8-ю армию, предполагая, что на южном фланге им противостоит одна 3-я армия. И русские и австрийцы наносили главный удар своими левыми флангами. Мы на южном фасе, австрийцы на северном, имея там преимущество в силах и средствах. Создавался так называемый закручивающий эффект. Проанализируем очень кратко ход сражений, двигаясь вдоль линии фронта сверху вниз. Но сначала скажем несколько слов о командном составе русских войск. Он оказался несравнимо выше по своим профессиональным качествам коллег Северо-Западного фронта. Командующий фронтом генерал от артиллерии Н. И. Иванов, хоть и считался некоторыми, например Брусиловым, узким в своих взглядах «артиллерийским каптенармусом», имел приличный опыт командования корпусом, армией, округом не только в мирное, но и военное время. Что бы ни говорили завистники, управлял войсками он довольно умело и не допускал таких роковых просчетов, как его коллега Жилинский. Кстати, это был безупречно честный, храбрый, высоконравственный человек. Единственный из военачальников его ранга, он не предал государя императора, не потребовал его отречения, единственный остался верен присяге, в отличие от господ критиканов. К тому же в начальниках штаба у него состоял лучший начальник штаба мировой войны генерал от инфантерии М. В. Алексеев, «человек очень умный, быстро схватывающий обстановку, отличный стратег». 3-й и 8-й армиями соответственно командовали генерал от инфантерии Н. В. Рузский и генерал от кавалерии А. А. Брусилов, которые на голову были выше тех же Ренненкампфа и Самсонова, что и доказали в первых же боях на направлении главного удара. Командующие 4-й армией генерал Зальц и 5-й армией генерал Плеве не дотягивали до Брусилова, но все-таки превосходили командующих 1-й и 2-й армий.