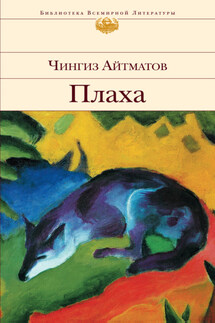На горах - страница 118
– Таких же, как и все, – ответила Таисея. – Сначала-то в недоуменье была, и на того думала, и на другого; чего греха таить, мекала и на тебя, и как приехала из Питера Таифа, так все это дело и распутала, как по ниточкам. А потом и сам Патап Максимыч сказывал, что давно Василья Борисыча в зятья себе прочил.
«Эка умница какая мать-то Таифа! – подумал Петр Степаныч. – Надо будет купить ей ковровый платок».
– Стало быть, матушка Манефа теперь успокоилась? Не убивается, как давеча говорила мать Таифа? – мало погодя, спросил Самоквасов.
– Как же это не убиваться, сударь ты мой, как ей не убиваться? – отвечала Таисея. – Ведь ославилась обитель-то. То вдова сбежит, то девку выкрадут!.. Конечно, все это было, когда матушка в отлучке находилась, да ведь станут ли о том рассуждать?.. Оченно убивает это матушку Манефу. А тут еще и Фленушка-то у нее.
– А что такое? – быстро спросил Петр Степаныч.
– Господь ее знает, что такое с ней приключилось: сначала постричься хотела, потом руки на себя наложить, тоска с чего-то на нее напала, а теперь грешным делом испивать зачала.
– Славная шубка, славная! – говорила Таифа, выходя в это время из Дуниной комнаты с Марком Данилычем. – Отродясь такой еще не видывала. Да и все приданство бесподобное.
Петр Степаныч наскоро простился с Марком Данилычем.
Сумрачен, пасмурен вышел и тихо пошел, не размышляя куда и зачем. Молча и дико смотрит вокруг, и все ему кажется в желтом каком-то тумане. Шумный говор, громкие крики людей, стук и скрип тяжело нагруженных возов, резкий пронзительный стук целых обозов с железом – не слышны ему. Холод по телу его пробегал, хоть знойный полдень в то время пало́м пáлил.
Острою, жгучею болью, ровно стрелой, пронзило сердце его, когда узнал он про Фленушку… «Бедная, бедная!..» – думает. И вспоминает.
Вот она, легкая станом, чудной прелести девушка, резво, будто на крыльях, несется вдоль по зеленому всполью. Едва поспеваешь за ней, достигнуть нет сил. Вот перелесок, и в прохладной тени, на сочной, пушистой траве вдруг упала, лежит недвижимо, пурпурные губки раскрыв. Темные очи из-под густых соболиных бровей, звездами сверкнув, на минуту закрылись. Подбежал и как вкопанный стал, жадно смотря на ее красоту. Чуть-чуть слегка развела белоснежные руки, открыла глаза – они затуманены негой. Вот низко наклонился он над пылающим лицом, хочет сорвать поцелуй, но, как будто бы резвая птичка, она встрепенулась и резвоного бежит…
Вот сидит он в мрачном раздумье, склонясь над столом, в светелке Манефы. Тихо, безмолвно, беззвучно. Двери настежь, и с ясным радостным смехом птичкой влетела она. Шаловлива, игрива, как рыбка, быстро она подбежала, обвила его шею руками, осияла очами, полными ясных лучей, и уста их слились. Сам не помня себя, вскочил он, но, как сон, как виденье, исчезла она.
Вот в знойный полдень на всполье она на Каменном Вражке, в кругу подруг молодых, под надзором двух стариц смиренных и сонных. Чинно, чуть слышно девицы беседу между собою ведут, шепотом молитву творят инокини, ради отгнания «срящего беса полуденного». Вдруг у ней загорелись ланиты, темные очи зажглись, как огни. Руки в боки, и лихая веселая песня раздалась по долине. Мечутся матери, хотят унять проказницу… Остановишь ли в поле ветер, удержишь ли водный поток? Одни за другим пристают голоса, звучит песня громче и громче, заглушая крикливую брань матерей.