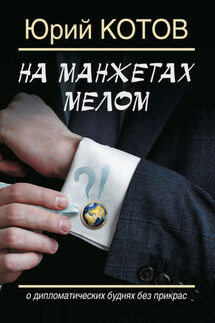На манжетах мелом. О дипломатических буднях без прикрас - страница 2
О своем пребывании там, а точнее о трех эпизодах из него, я знаю со слов своей бабушки – Александры Ивановны. С ней мне потом пришлось прожить более десятка лет и в Москве, и в Финляндии, и снова в Москве. По ее утверждениям, за мной числилось свершение следующих «подвигов». Отрубили как-то перед съедением курочке головку и забросили ее в густые заросли крапивы. И я якобы залез в эти жгучие чащи, отыскал куриную голову и потребовал немедленно пришить обратно. Была там однорогая бодливая коза, которую я вроде бы умудрился оседлать и катался на ней с криками: давай, лошадка! Двоюродная бабушка Еня (даже не знаю, какое у нее было полное имя, наверное, Евдокия?) работала конюхом в местной конюшне. Как-то она взяла меня с собой, на минутку отвлеклась по делам, а затем обнаружила меня мирно играющим между копытами жеребца с весьма строптивым нравом. С большой осторожностью и опаской пришлось ей извлекать из-под него не в меру шустрого внучонка.
И какой же вывод можно сделать из вышеописанного? – спросит заинтересованный читатель. А следующий – видно, что сызмальства я был приучен попадать во всякие сложные и опасные ситуации. Наверное, это пригодилось мне и в зрелые годы. Например, во время поездок под дулами автоматов на переговоры с талибами в Кандагар или под ковровыми бомбардировками натовской авиации в Косово на встречу с Ибрагимом Руговой (позже, я, разумеется, поведаю об этом подробно и без потуг на юмор). А сейчас просто попытался в очередной раз пошутить.
Ну а теперь могу сослаться и на собственные, хоть и смутные воспоминания. По возвращении в Москву где-то ближе к окончанию войны жили мы некоторое время в большом сером доме на Преображенской площади, в многокомнатной коммунальной квартире, соседей по которой я не помню. Но зато в памяти у меня осталось, как бабушка ставит меня на подоконник, чтобы я смог посмотреть салют. Исходя из временного периода, с большой долей уверенности могу предположить, что это был салют Победы.
Через несколько месяцев после этого мы с мамой отправились в Хельсинки, где сразу после подписания мирного договора с Финляндией работал отец. Сначала в союзной контрольной комиссии по Финляндии, которую возглавлял генерал-полковник Григорий Михайлович Савоненков – он потом был некоторое время руководителем нашего посольства, куда вместе с ним и перешел на работу отец. На должность 2-го, потом 1-го секретаря, хотя служил-то он в совсем другом ведомстве (об этом сейчас открыто написано в Интернете – так что каких-то гостайн я не открываю), а точнее – во внешнеполитической разведке.
Отец стал резидентом этой службы в Финляндии, когда ему еще не исполнилось тридцати лет. Впоследствии он еще дважды находился в этой стране на той же должности, только «крыша» у него была чуть повыше – советник посольства по политическим вопросам.
В тридцать восемь лет он был назначен заместителем начальника ПГУ КГБ СССР (нынешняя СВР), курировавшим европейское направление. Был первым начальником (фактически создателем) управления «Р» (оперативное планирование и анализ). Ушел из жизни в 1993 году. В музей СВР (допуск туда имеют даже не все сотрудники этого ведомства) я сдал все его многочисленные ордена, которые расположены в отдельной витрине. В том же зале вывешена большая фотография генерал-майора Михаила Григорьевича Котова с подписью о его вкладе в становление дружеских советско-финских отношений. На мраморной стеле, где выбиты фамилии обладателей знака «Почетный чекист», он числится под третьим номером.