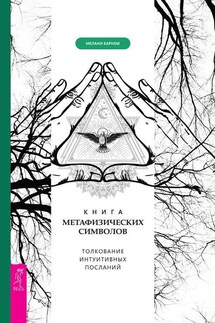На Пути к Человекии - страница 2
И даже на Дальнем Востоке я хочу жить среди человечества и ради него же всего прежде.
(1987 г.)
Я с детства был непокладистым у всех доставшихся систем (структур!), лишь внешне мирясь с ними, с возрастом несговорчивым даже там, где раздавались выгодные подряды, приличные места, звучные награды. Останавливали скрытая нечестность, а то и зримая бессовестность поступков, которыми надо было это оплатить.
Но признавать свою жизнь нелёгкой, судьбу — неустроенной, себя — несчастливым не могу. В голову не приходит!
Не во всём и весьма не всегда был прав в прожитом и нажитом. Хуже — вредил себе не по одним пустякам, а то и трусил, зная, как мало сил или желания, азарта или надежды. Но всё же удерживал в себе не очень — то порой ясно ощущаемую (да простится столь громкое слово!) цитадель человечности, выстроенную во мне добрыми и светлыми людьми всех эпох и народов, добытую самими знаниями, а равно — солнечным светом, далью дня и глубиной ночи.
Это сейчас я хорошо знаю: я отстаивал в себе человека!
(1987 г.)
Я. Если от моего счастья не становится лучше другим — это всего лишь тупое, равнодушное благоденствие.
(1987 г.)
Я истосковался по людям, кто вменил себе навечно в высшую человеческую обязанность — думать! До чего надоело толкаться среди безголовья и бездумья и кофием себя подхлёстывать да невнятно обнадёживать, что время ещё есть и призовёт оно однажды! Всё лишь разновидность злостного самоубийства. Жить хочется с толком и в полноте человеческой пользы от себя. В душевном здравии работника человечества, а не задавленным окрестными традициями, правилами и усилиями официальных граждан, маловразумительным даже для себя самого имяреком.
Иллюзия деятельности, достаточная для процветания посредственности, — мучительная смерть нормально развитому уму.
(1987 г.)
Я не просто битый — из группы чрезвычайно повышенного риска!
Мои товарищи во все времена и у всех народов либо вынуждены кончить жизнь самоубийством, как Гаршин или Маяковский, либо досрочно гибнут от инфаркта, либо спиваются, сходят с ума, сламываются необратимо, либо проваливаются в яростное увлечение какой — нибудь философской крайностью.
Всё, как в штрафной роте, — немногие благополучно дотягивают до срока.
(1990 г.)
Я — атеист уже потому, что мне тесно в любой из религий. А исповедовать все вместе в лучшей их части не дозволит ни одна, ни один из их священников и правоверных!
(1990 г.)
В девяностые
В девяностые — разгромные
Я не нашёл своей родины среди доставшихся людей во всех уголках Отечества и в странах, где побывал. Возможно, она возникала в прошлом. Возможно, всё в будущем. Если я человек, то привязанность к земному небу, к воде, далям, степям, к живой застылости гор не отменяет чуждости большинства встреченных людей. Только проблески! Эта чуждость — в неодолимой разности языка. Принимая их язык, я начинал терять себя. Пытаясь обучить своему, изначальнейше открытому для тепла и света, доброжелательному, я ещё больше изматываюсь в безнадёжных тратах. Всё так, будто моей родины на этой планете и вовсе нет.
И время от времени так безумно хочется вернуться на другую, где в порядке вещей ум и совесть. Где не убивают, не насилуют, не грабят и не воруют, не бьют, не издеваются, как и не продаются, не унижаются. И не расчеловечиваются.
(1991 г.)
Я. Хочется простоты от искренности. Искренности — от глубины. А глубины — от человечности. Но человечность и есть искренняя глубина, которая выбирает простоту человечности, и прежде всего — во взаимоотношениях с самим собой.