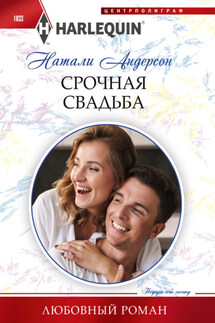Наперсный крест - страница 22
Не зная, что сказать ему, я вздохнул:
– На все воля Божия!
– Так-то оно так. Когда турку брюхо штыком вспорол, а у него на глазах слезы. Я под Севастополем также плакал от боли. Война, она человека зверем делает, зверем, батюшка, будь-то русский или басурман.
Огромное поле стонало, кричало, молило о помощи, плакало от боли. Громко ржали, скребли копытами оземь, стремясь подняться, раненые кони. Похоронная команда сносила в общий ряд убитых. Этот длинный ряд порубленных, исколотых, обезглавленных, обезрученных тел потряс меня. «Молох, истинный молох», – шептал я сам себе.
– Вот это и есть война, батюшка, хуже соломорезки, – и Кременецкий подозвал начальника похоронной команды, – выберите место хорошее, красивое.
Растерянный молодой солдат держал перед собой чью-то отрубленную по локоть руку, пытаясь найти среди тел ее хозяина, все спрашивал у похоронщиков:
– Обезрученного куда положили?
Кто-то из них недовольно проговорил:
– Кажись справа, там и обезрученные, и обезглавленные. Да не носись ты с ней…
– А что делать?
– Спроси у батюшки.
Солдат подошел ко мне:
– Не нашел, отец Сергий, чья, может, хозяин и вовсе живой остался, а с ней-то как быть? В кусты не забросишь?
Это было до неправдоподобности простое обличье войны. Весь огромный мир вдруг сузился до этого окровавленного поля. Ранее неведомая боль пронзила меня с такой силой, что потемнело в глазах. «Господи, ведь ты же сотворил всех нас по своему образу и подобию, живите, радуйтесь. А мы? А мы? Сколько убиенных сейчас предстанут перед тобой! Сколько слез прольется! Вот она, война!» Сам не зная почему, вновь и вновь повторял: «Молох, истинный молох! Сколько молодых, крепких мужиков и дальше будут молить тебя о пощаде, Господи… Господи, помилуй нас!»
– Турки, турки!!
С белым флагом к нам подъезжали несколько турецких офицеров. Они о чем-то переговорили с Кременецким, и вслед за парламентариями на поле появились турецкие санитары, начали вывозить в скрипевших от тяжелого груза арбах убитых и раненых.
На берегу Дуная я совершил и первое отпевание. Солдаты лежали вдоль длинной общей могилы. Место для нее выбирал Миранович. Он отказался сразу уезжать из полка, заявив, что должен присутствовать на похоронах, ибо в эту могилу предстояло опустить в большинстве своем солдат его роты. Кременецкий разрешил. Миранович поблагодарил и, подойдя ко мне, промолвил:
– Не обессудьте, ваше преподобие, хочу, чтобы место было высокое… чтобы с него… чтобы сам Дунай над ними вздыхал и плакал.
Когда на сыпучем высоком холме воздвигли большой деревянный крест с прикрепленной табличкой, на которой были выписаны имена павших, Миранович вздохнул:
– Может, когда-нибудь братья-болгаре надумаются и соорудят здесь большой памятник, а пока пусть наши герои довольствуются простым православных крестом… Как-то теперь дома известие о их смерти встретят?
Командир болгарской дружины, рослый с мужественным лицом Радован Гордич, он так назвался еще перед переправой, обнял Мирановича:
– Браток, болгары вечно будут об этом помнить.
Затем в систовской церкви, маленькой, стоявшей на тесной, умощенной булыжником площади, душной, увешанной многими иконами, полк прощался с павшими в сражении офицерами и прапорщиками. Среди них штабс-капитан Петрович, подпоручик Каненберг, прапорщик Федоров.
Также из полка по ранению убыли капитаны Семенов, Стрешенцов, прапорщик Рыжкин.