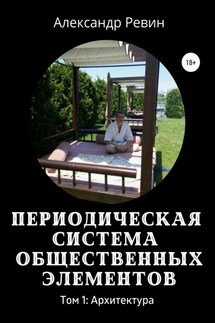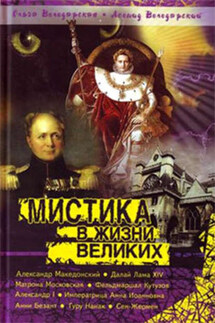Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых - страница 2
Многочисленные попытки соотнесения особенностей почитания отдельных святых, черты разнообразных народнохристианских верований и обрядов с дохристианскими, «языческими» и т. п. верованиями и ритуалами обладают разной степенью достоверности. Исследователи часто прибегают к этому методу при описании культов отдельных святых. Так, в работах П. Ф. Лимерова, посвященных почитанию св. Стефана Пермского (в фольклорных текстах Степана) у коми и его народной агиографии [Лимеров-2008, Лимеров-2008а], напрямую устанавливается связь между почитанием этого святого и коми мифологией: «Существенным фактором для обожествления было влияние языческой мифологии на образ Степана. Утверждаясь в неокрепшей еще христианской религиозности пермян XVI–XVII вв., образ Степана так или иначе подвергался мифологизации, принимал черты культурного героя. Можно предположить, что на начальном этапе он воспринимался как бог-медиатор, типа Мир-Сусне-Хума обских угров, обеспечивающий посредничество между миром людей и небом. Есть несколько точек соприкосновения между этими, казалось бы, разными образами. Как и Степан, Мир-Сусне-Хум является небесным посланцем на землю, он – “ народ созерцающий человек”, ходатай за каждого из людей перед небесным Богом» [Лимеров-2008, 14]. Существенными аргументами для автора оказываются совершенные святым чудеса, которые соотносятся с чудесами самого Христа, а также культуртрегерская деятельность святого, соотносимая с деятельностью коми божеств. Не ускользает от внимания ученого и то, что в фольклорных нарративах о крестителе перми он именуется богом: «Основной сюжетный мотив в приведенном тексте – топонимический, репрезентирующий происхождение названия дер. Ляли, но рассказчик многократным повторением мотива плавания как бы смещает смысловой ракурс текста на неординарный образ самого путешественника, так что вопрос собирателя: “А кто он такой?” звучит вполне закономерно, он подготовлен рассказыванием. Кроме того, закономерен и ответ информатора: “Бог!”, вопрос был ожидаем, поскольку к такому ответу и было имплицитно направляемо повествование» [Там же, 13]. Далее автор пускается в рассуждения, что Христос и святые в коми картине мира представляют собой иерархию языческих богов. При этом автор, кажется, забывает, что записи, о которых он говорит, сделаны в наше время, а не во время крещения коми или канонизации Стефана, и не учитывает, что то же наименование дается святым и в русском языке, причем едва ли употребление слова бог применительно к святым или их изображениям может свидетельствовать о сохранившемся на протяжении тысячелетия рефлексе политеизма, существование которого у славян вообще под большим вопросом. Скорее, здесь следует говорить о языковом освоении пространства сакрального, использовании корня бог- в качестве маркера для разграничения сакрального и мирского (ср. бог – икона; божница – красный угол, место, где держат богов в упомянутом только что значении этого слова; божественная старушка – богомольная; убогий, небога – нищий странник, воспринимаемый как носитель сакральной информации, и проч.).
Этот же подход распространен и в западной науке. При рассмотрении народного культа отдельных святых ученые в той или иной степени отсылают читателя к существовавшим на описываемой территории языческим мифологиям: античной греко-римской, кельтской, германской. Например, по утверждению одного из первых исследователей, занимавшихся культом апостола Иакова в Галисии, – Гарольда Пика, – связанное с культом Сант-Яго (св. ап. Иакова) почитание мегалитических сооружений восходит к языческим верованиям местных крестьян, которые, будучи номинально христианами, по-прежнему поклонялись идолам, так что, когда в VII в. в Испанию пришли сарацины, местные жители с легкостью приняли ислам, столь же номинально, сколь и христианство [Peake, 212]. О Pico Santo – священной скале, на которой, согласно легенде, был погребен Сант-Яго, как месте более древних языческих культов пишет Г. Хаус, продолжая исследования Г. Пика [Howes, 138–139]. При этом он, настаивая на доисторическом времени начала почитания соответствующего места (Pico Santo и расположенный на нем дольмен), отказывается от попытки отделить языческое от христианского и говорит о подмене прежнего, друидского смысла почитания камней более поздним, христианским [Там же]. Следы древней языческой мифологии склонна видеть в почитании Сант-Яго и Рут Партингтон. Она обращается к процессии, идущей к собору Сантьяго-де-Компостелла в дни почитания святого, в которой участвуют ряженые великаны Коко и Кока (Coco, Coca), и, сопоставляя с великанами других процессий в испанской традиции, выстраивает их связь с великанами древних мифов, из которых они могли быть позаимствованы: «Goliath, the enemies of Zeus in the Gigantomachia, the giants of Germanic legend who could not bear to hear the name of Christ, all represent the pagan, the defeated enemy, the old order whether human or divine» [Partington, 361]. В частности, по мнению автора, они соотносятся с драконом, обитающим на Pico Santo и стерегущим тамошние сокровища, поскольку слово