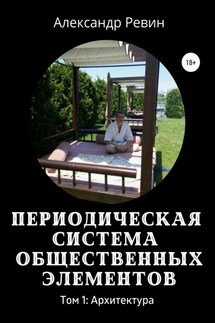Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых - страница 6
Вместе с тем, естественно, святость в народной интерпретации есть особая категория, складывающаяся из ряда признаков и черт, крайне важных для фольклорной картины мира, но несколько отличающихся от церковного понимания. Прежде всего рядом исследователей отмечается, что для носителей народной культуры она не есть следствие праведной жизни или христианского подвига. «Основание святости заключалось не в том, как жили святые, но в том, как они могли оказывать покровительство своим почитателям» [Левин, 174–175]. О том же пишут болгарские исследователи П. Иванов и В. Измирлиева, замечая, что святые, по народным представлениям, избраны, а не стали такими, заслужив это [Иванов, Измирлиева, 45], то же утверждает С. Гьюдман [Gudeman, 710] и др. При этом неоднократно констатировалось, что почитание святых обычно связано с ожиданием покровительства или чуда [Левин, 174–175], поэтому в основном народные нарративы преимущественно сконцентрированы на описании чудес, а круг почитаемых в народе святых составляют в основном чудотворцы [Иванов, Измирлиева, 45], но не мученики. Македонский ученый Т. Вражиновский отмечает еще одну особенность, лежащую в основе народного почитания святых, – связь с местом их земного пребывания и населяющими его людьми: они служат посредниками между Богом и той общиной, в которой почитаются [Вражиновски, 272]. Впрочем, это утверждение похоже на натяжку, поскольку, как видно из многочисленных примеров и исследований, святые в народных верованиях скорее могут выступать как субституты Бога, чем как посредники. А. Я. Гуревич, описывая статус святого в средневековой народной культуре, так объясняет его: «Святой – сверхъестественное существо, находящееся в непосредственной связи с высшими силами и обладающее магическими способностями. Эти способности святой применяет для того, чтобы помогать своим поклонникам, верным, облегчать их жизнь, исцелять от болезней, отвращать угрожающие им природные или социальные бедствия, освобождать “маленьких людей”, обездоленных и беспомощных, от угнетения и притеснения. За благодеяния, расточаемые им при жизни или, по большей части, после кончины, святой требует повиновения, поклонения и подарков в пользу опекаемого им церковного учреждения. Отказ от выполнения прихожанами этих обязательств либо небрежение ими влекут за собой жестокие кары со стороны святого патрона. Как мы видели, святой, будучи образцом смирения и непротивления, в то же время оказывается суровым и безжалостным карателем и мстителем» [Гуревич, 128]. В этой характеристике, начав с роли посредника, автор переходит на роль святого как самостоятельного актора, имеющего собственную власть, силу, волю. Таким образом, автор постулирует самостоятельную (а не посредническую) роль святого.
Соотношение Бога и святых в народном христианстве тоже вызывало интерес исследователей, по-разному воспринимавших и описывавших его. Так, сербский ученый Л. Раденкович, анализируя народный культ св. Саввы Сербского, пишет о сходстве и даже контаминации его с Богом [Раденковић-2001, 93]. Часто отмечается тождество или изофункциональность Бога и святых в народных легендах [например, Щепанская-2003, 434]. Однако некоторые исследователи все же пытаются разграничить функции Бога и святых, основываясь, впрочем, скорее не на реальном фольклорном материале, а на некоторой заранее созданной ими самими модели [Вражиновски, 272, 277; Арнаутова, 335]. То же замечает и E. Чупак, правда, из его рассуждений неясно, говорит ли он о книжной, церковной традиции или о народной, поскольку применительно и к житиям, и к фольклорным легендам он пользуется общим термином