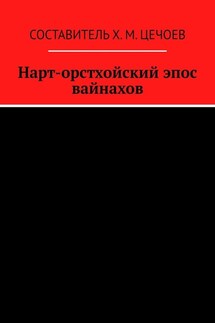Нарт-орстхойский эпос вайнахов - страница 3
в) о могучих богатырях-родоначальниках (полумифических-полуисторических)».
«Вторую эпическую группу составляют рассказы о трех типах героев:
а) о нарт-орстхойцах, в числе которых встречаем такие общекавказские эпические имена и образы, как» Сеска Солса (Соска Солса), Урузман (Орзми), Хамчи, Патарз (Патриж), Ачамза, Техшоко, Германчи, Шертга, Кинда Шоа, Чопа-Бороган,Гожак, Наур, Села Сата;
«б) о местных героях – ингушских и чеченских (в системе нарт-орстхойского эпоса), которые имеют, например, такие имена: Колай Кант, Охкыр Кант, Эшк, Горжай, и др. (преимущественно у ингушей); Ахмед, Толам-Аго, Чуара Нельбиевич и др. (у чеченцев)»;
в) «о безымянных нартах либо нарт-эрстхойцах и т. д. (у чеченцев); обычно речь идет о «семи братьях»; по аналогии «семь братьев-нартов» – у аварцев, даргинцев, лаков; встречается и у осетин.
Эти образы преимущественно наблюдаются в сказках богатырских и новеллистических. В богатырских сказках герои-богатыри имеют свои имена, например, Пахьтат, Фушт, Ботг и др.
К третьей эпической группе мы относим сказания, предания и легенды, которые непосредственно не относятся к нарт-орстхойскому эпосу». «Здесь тоже фигурируют местные герои, но они в основном находятся вне художественной системы нарт-орстхойских сказаний. Из местных героев назовем таких, как Баркум Кант, Нясар, Лорса, «Сын Лоаман Ха», Тинин Вюсу и др. В третью группу включены сказания и легенды о хромом Тимуре (Астах Темыр), т. е. Тамерлане» (Далгат, с. 26—27).
Противоречия
Таким образом, в отличие от всех других сторонников «субстратной теории» происхождения Нартиады, считавших достаточным основанием предполагаемое существование в далеком прошлом зачатков эпоса в среде гипотетической «пракавказской общности», У. Б. Далгат увидела истоки нартских сюжетов и образов в древних мифах о великанах, сохранившихся в фольклоре народов Кавказа. Но, подгоняя материал под свою концепцию, исследовательница совершенно не заметила, что в таком случае границы героического эпоса как жанра перестают существовать, поскольку включила в него и космогонические мифы, и мифы о языческих божествах, и сказки, и генеалогические легенды, и даже былички (см. тексты, приложенные к ее монографии), как и сказания о нарт-орстхойцах. С таким же успехом могли расширить до необъятных размеров свои эпосы и другие народы Кавказа.
Кроме того, выдвинув это предположение, У. Б. Далгат стала заложницей своей же концепции. Так, о великанах она пишет: «Следует заметить, что природа этих образов совершенно однородна. В основе их существа лежат древние мифологические представления людей, олицетворявших в образах страшных исполинов темную силу» (Далгат, с. 28). О том, когда, как и почему олицетворения «темных сил» превратились в положительно окрашенных героев, в монографии ничего не сказано.
К тому же исследовательница пишет: «Образы великанов по своей художественной сути лишены героического содержания и принадлежат к наидревнейшему эпическому типу». Но затем выясняется, что это не так, и великаны великанам все же рознь. «В сказаниях чеченцев и ингушей, которые следует признать наиболее архаическими, зафиксированы различные образы великанов. Однако если великаны-чудовища типа дэвов и каджей имеют древнеиранское, авестийское происхождение, то великаны-богатыри эпического вида – порождение местной богатырской традиции» – имея в виду, например, богатырей-родоначальников (Далгат, с. 28).