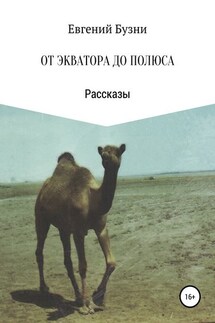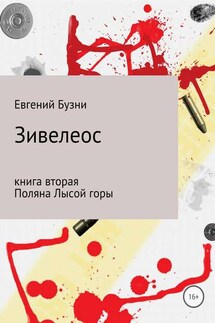Настасья Алексеевна. Книга 4 - страница 34
Посовещавшись, решили присоединить норвежцев к этой же лекции. Переводя почти синхронно, стараясь не очень отставать от говорящего, весьма пожилого, но довольно энергичного, подвижного, что было естественно при его худобе и небольшом росте, человека. Но говорил он неторопливо, время от времени поглядывая на переводчицу спокойно, не напрягая её взглядом, а, казалось бы, думая о своём.
– Ведь находят же шахтёры в угольных пластах Шпицбергена окаменелые листья древних папоротников или их отпечатки. А в 1961 году норвежская экспедиция обнаружила гигантский след, оставленный на этой земле миллионы лет назад динозавром. – И Фёдор Васильевич – так звали автора музейной экспозиции – показывает на экспонаты окаменелостей и фото следа динозавра, поясняя свою мысль:
– Значит, шумели здесь когда-то джунгли, гуляли меж деревьев древние ящеры, пели песни райские птицы? Мог и этой край стать обетованным. Впрочем, и сейчас в летнее время на архипелаге поют остроклювые с серыми спинками и хитринкой в глазах пеночки, гуляют белоснежные куропатки, постоянно кричат о чём-то чайки да носятся с кораблями наперегонки глупыши, а хозяин Заполярья белый медведь оставляет, конечно, не такие большие следы, как динозавр, но тоже весьма впечатляющие в сравнении, например, с мелкими отпечатками ног песца.
Нет, теперь райским уголком холодную землю, где мороз зимой проявляет себя, опускаясь до сорока шести градусов, а в короткое время лета едва достигает плюс двадцати, назвать трудно. Но опять же, кому как. Был обычай у поморов ставить на высоких местах, чтоб с моря заметно было, высокие семиметровые обетованные кресты, у подножия которых давали обет сюда вернуться. Называли их и приметными крестами, служившими знаками, наносимыми на лоцманские карты, и поклонными для поклонения. Всё одно. – И Строков показывает указкой на фотографии поморских крестов.
– Только известно, что с давних пор тянуло сюда людей, как магнитом. Кругом льды, ураганные ветры, снег колючками бьёт в лицо, ни зги не видно, когда ночи бесконечно длинны, волны высотой аж под самое небо захлёстывают судёнышки со всеми мачтами и переборками, чего, спрашивается, лезть в такую стихию? А лезут. И первыми сюда направились русские поморы. Ну, никак не сиделось им на обжитых берегах Сибири, строили свои деревянные кочи, налаживали паруса и шли по морю-океану ещё дальше на север, туда, где вспыхивает вдруг белым сиянием ночной небосвод, да потом окрасится разными красками, и пойдут гулять по небу разноцветные волны, аж сердце замирает от красоты невиданной. В дороге тонули судёнышки, погибали люди, но тяга к новому, неизведанному сильнее смерти у русского человека, и ничто не могло его остановить.
По тому, как говорил профессор, видно было, что он влюблён и в Шпицберген, и в русский народ, который, по его мнению, да и на основании показываемых им музейных экспонатах, были первыми на Архипелаге. Слова его лились подобно песни:
– По меньшей мере, за сто лет до того, как голландский мореплаватель Уиллем Баренц наткнулся кораблями его экспедиции на землю, которую назвал за остроконечные пики холмов Шпицбергеном, что стало известно всей Европе, русские поморы уже целый век вели своё промысел на архипелаге, который называли по-своему Груланда. А несколько позднее это наименование трансформировалось в более короткое и звучное Грумант или более ласково Батюшка Грумант. Именно о нём слагали поморы песни, кои исполнялись по возвращении с далёкой земли посказатели да песенники. Вот одна из них.