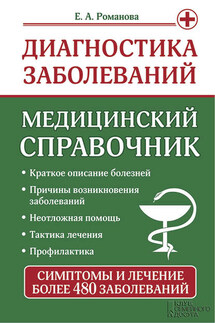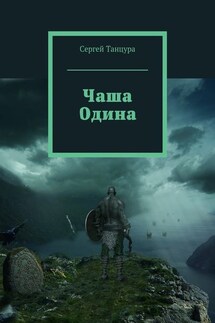Настольная книга начинающего грибника - страница 28
– Будешь?
На исконно русский вопрос я не задумываясь выдаю исконно русский ответ:
– Буду.
Но потом из малодушия уточняю:
– А что?
– Его, – отвечает дед.
Поясню. Если ответ «ее» – значит, водка. А если «его» – это, соответственно, спирт. Последнего на биостанции всегда вволю, чтобы научный труд не терял привлекательности.
Егорыч – знаковая на биостанции личность. Он то ли сторож, то ли немножко завхоз – никто точно не знает. По крайней мере сапоги-болотники студентам выдает именно он. Невысокого роста тощий дедок, с дребезжащим испито-прокуренным голоском, в кирзе и ватнике в любую погоду, бородка а-ля Троцкий. У всего обучающегося, преподающего и научного состава сторож-завхоз вызывал глубочайшее почтение своим непревзойденным умением материться.
Заходим, садимся. Егорыч разливает. Причем мне, старый жмот, разбавляет, а себе, понятно, нет. Выпиваем первый стакашек, закуриваем.
– Ба! – спохватывается Егорыч. – У меня ж закусочка есть, грибочки соленые.
Я оживляюсь.
– Что за грибочки?
– Желтяки.
– Это чё за фигня? – удивляюсь. С русскими названиями грибов у меня всегда плохо было, я все больше полатыни, а уж о каких-то «желтяках» сроду не слышал.
– Сам ты фигня, – в нехарактерно мягкой манере отвечает дед. – Их по-другому «валуй» зовут. Так их еще бабка моя, царствие ей, называла.
– А-а, понятно. Ну, давай.
Егорыч достает банку и вытряхивает грибы на блюдечко. Разливает по второй (мне снова разбавляет), выпиваем. Я не глядя подцепляю грибок, разжевываю и понимаю, что полученные вкусовые ощущения совершенно расходятся с ожидаемыми.
Смотрю на тарелку.
– Егорыч, – говорю, – врала твоя бабка, царствие ей. Не валуи это.
Мгновенно набычившись, Егорыч выдает:
– Ты мою бабку не замай, вафлёр-кругляк-иззащеканец. Я тебе, рипидистий, сказал – «валуй», значит, валуй он и есть. (Рипидистий – это не мат. Это слово дед у ихтиологов подцепил. Была такая древняя рыба – рипидистия, вот он красивое и звучное название, созвучное другому слову, и переработал.)
Спорить я, конечно, не стал. Кто его знает, может быть, в той деревне, откуда была родом егорычева бабка, действительно «желтяками» и «валуями» называли лежащие передо мной на блюдечке… рыжики.
Подгруздики
ПОДГРУЗДКИ – сыроежки крупные, солидные, мясистые, с короткой толстой ножкой и широкой шляпкой, короче говоря, действительно походят на грузди. Яркой окраской природа их не снабдила: цвет шляпок меняется от белого до почти черного через сероватые или буроватые переходы. У видов с белой шляпкой мякоть на сломе цвет не меняет, у окрашенных – темнеет. Все подгруздки с темнеющей мякотью в засолке становятся черными. Отмершие грибы из-за плотной мякоти разлагаются очень долго, при этом они чернеют и выглядят обугленными, нередко сохраняясь в таком виде до следующего года.
Интересно, что почти везде у нас в стране, где собираются грузди, собирают и подгруздки. При этом грибы не отделяют друг от друга, а пускают в засол на равных правах (север Европейской части России, Сибирь). Более того, есть регионы, где подгруздки считаются лучшим и чуть ли не единственным съедобным грибом (например, Поволжье), а настоящие грузди грибники не берут вовсе.
Итак, что за подгруздки живут в наших лесах?
Подгруздок белый (c. 7, 56) – самый распространенный из подгруздков и один из самых распространенных съедобных грибов (см. фото на предыдущей странице). Грибы часто и обильно встречаются в березовых, осиновых, еловых и смешанных лесах. Очень похожи на белоокрашенные грузди и скрипицу. Шляпка 7–20 см в диаметре, чисто-белая, иногда с буровато-желтыми пятнами, сначала тонко-войлочная, затем голая, очень часто с приставшими комочками земли, сухая. Пластинки довольно тонкие, белые или голубовато-белые. Ножка толстая и относительно короткая, 2–5 х 1–2 см, белая, с возрастом становится полой. Мякоть плотная, хрупкая, белая, цвет на сломе не меняет, неедкая, зато пластинки белого подгруздка – очень едкие. Плодоносит с июня по ноябрь.