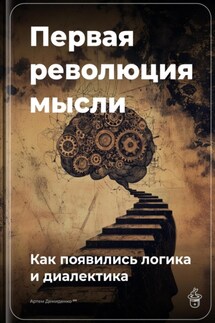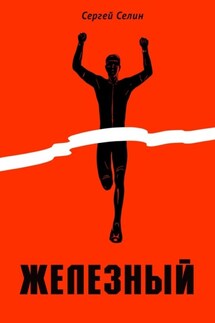Научная объективность и ее контексты - страница 52
«Естествознание» располагается в конце этого ряда, в том месте, где Я, субъект, представляет лишь незначительную часть; любое продвижение в моделировании понятий физики, астрономии означает дальнейший шаг на пути к цели – исключению Я. Это, конечно, относится не к акту познания, связанному с субъектом, а к итоговой картине природы, основанной на идее, что обычный мир существует способом, независимым и не испытывающим влияния от процесса познания[92].
Единственное, чего тут не хватает, – это указания пути, на котором можно достичь этой цели. Если «акт познания связан с субъектом», как возможно «исключить Я»? Ответ, который мы пытались дать, кажется разумным: если знание неизбежно связано с субъектом, то не на основе знания можем мы надеяться исключить субъект. У нас, однако, есть альтернативная основа, позволяющая нам исключить субъект, – делание[93].
Чтобы выразить сказанное выше более образно, мы могли бы сказать, что, хотя субъект не может раскрыть другим свое сознание, он может показать им, как он делает разные вещи и что он уже сделал. Соответственно, в то время как два или более субъекта никогда не могут проверить, пришла ли им в голову одна и та же мысль, они всегда могут проверить, выполняют ли они одни и те же операции, поскольку эти операции выполняются ими всеми. (Что каждый из них непосредственно воспринимает – другое дело; поэтому необходима абстракция, как и во всех случаях знания этого, т. е. пропозиционального знания.) Таким образом, когда мы говорим, что некоторое понятие не может само быть публичным, тогда как согласие по его поводу может, мы имеем в виду, что такое согласие выражается совпадением соответствующих операции и их результатов.
После всех этих уточнений автор не хочет быть неправильно понят, например, чтобы его считали бесхитростным прагматистом, покинувшим почву идей и разума в пользу возвращения к узкому взгляду на науку как просто способу операционного овладения физическим миром. Даже если бы мы не собирались высказать в дальнейшем явные соображения по поводу когнитивной стороны объективности (что мы и сделаем), уже сейчас из сказанного нами должно быть ясно, что интерсубъективность операций важна эпистемологически, поскольку является необходимым условием построения объективного знания[94].
Можно пойти даже дальше и утверждать, что не только объективное знание, но и любое пропозициональное знание всегда коренится в практике и операциях. Мы не хотим рассматривать здесь столь обширный и обязывающий тезис, поскольку это увело бы нас к обсуждению психологии и индивидуального формирования понятий, слишком далеких от нашей темы. Однако простого упоминания об этой возможности должно быть достаточно, чтобы показать, как любая позиция недоверия к операциональной составляющей научного знания может приводить к нежелательным трудностям при решении определенных проблем философии науки.
Еще один момент требует дальнейшего исследования. Как могут операции действовать как орудия построения объективного знания? Например, как мы говорили, я бы мог убедиться в том, имеет ли моя знакомая то же самое понятие о красном, что и я, предложив ей выбрать из группы карандашей красный; но как я могу быть уверен, что у нее то же представление о выборе, что и у меня? Это возражение не слишком трудно опровергнуть, поскольку наука (как и вообще знание) развивается не в вакууме, и мы спокойно можем включить язык и жесты в число самых элементарных операциональных средств, имеющихся в ее распоряжении