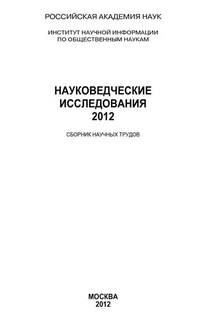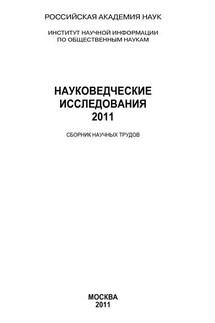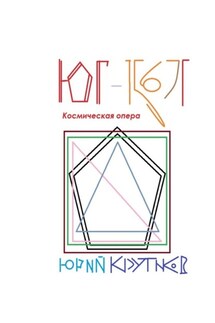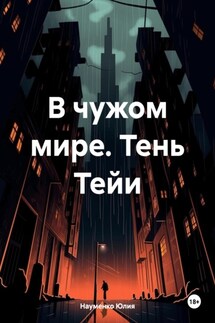Науковедческие исследования 2012 - страница 26
Таблица 5
Показатели качества жизни в странах, согласно базам данных WoS вносящих основной вклад в мировую науку [1, 19, 21, 22]
Таблица 6
Корреляции между вкладом стран в мировую науку и рядом их социально-экономических показателей9
* – корреляция значима на уровне 1%
Соответственно, если рассмотреть данный вопрос в прагматическом плане, то гипертрофированное значение вклада национальной науки в мировую предстает как стереотип, имеющий не прагматическое, а, скорее, символическое, «спортивное» значение. Аналогию со спортом можно продолжить и в том плане, что для нашей страны традиционно количество олимпийских медалей имеет большее значение, чем, например, состояние массового спорта или такие показатели, как количество убийств и беспризорников, хотя они куда важнее в плане национального благополучия, чем количество медалей.
Неужели дает о себе знать своеобразный комплекс национальной неполноценности, вынуждающий нас постоянно доказывать всему миру, что мы способны преуспевать в спорте и заниматься наукой? Но надо ли стране, запустившей первого в мире космонавта и имевшей немало других выдающихся научных достижений, постоянно доказывать, что ее ученые на что‐то способны? Создается впечатление, что это больше нужно политикам, чем ученым. Но те же политики не устают подчеркивать прагматизм, а не символический характер наших целей.
А если согласиться, например, с тем, что «Россия может и должна по качеству жизни сравняться с лидерами мирового развития» [7, с. 586], то для этого необходимо не наращивание количества публикаций в англо-американских журналах, а совсем другое. Так стоит ли придавать столь гипертрофированный смысл символическим и к тому же многократно искаженным, напоминающим систему кривых зеркал [3] показателям?
Из отрицательного ответа на этот вопрос, впрочем, ни в коей мере не следует отсутствие необходимости активной интеграции в мировую науку, в том числе и посредством публикаций в журналах, входящих в базы данных WoS. В частности, имело бы смысл выделение нашими научными фондами грантов на перевод статей российских авторов на иностранные языки. Однако следует относиться с острожностью к соответствующим показателям и дополнять их другими, не учитываемыми этими базами.
В заключение отметим, что в условиях, когда мы уделяем столь гипертрофированное внимание тому, как российская наука выглядит в базах данных Корпорации Томсона, имеет смысл учитывать и то, как ее оценивает сама эта Корпорация. В аналитическом отчете Корпорации, вышедшем в январе 2010 г. и посвященном состоянию российской науки, действительно отмечается снижение ее вклада в мировую науку в период 1994–2006 гг., что подается авторами отчета как тенденция, с одной стороны, достаточно парадоксальная, с другой – вполне понятная на фоне уровня финансирования российских исследовательских институтов, который оценивается в отчете в 3–5 % от уровня финансирования исследовательских учреждений аналогичной численности в США. Отмечается и то, что по «валовым» показателям вклада в мировую науку Россия сейчас отстает от целого ряда стран, которые раньше опережала: Китая, Индии, Канады, Австралии и др. Вместе с тем ситуация в нашей науке характеризуется как неоднозначная. Авторы отчета подчеркивают, что ухудшение ее мировых позиций в науках XX в., таких как физика и технические науки, сочетается с улучшением в науках XXI в., таких как нейронауки и науки о поведении. Отмечается и то, что снижение общего представительства российской науки в мировой в 1994–2006 гг. до 22 тыс. статей в год впоследствии (в 2007–2008 гг.) сменилось его повышением до 27600 статей [16].