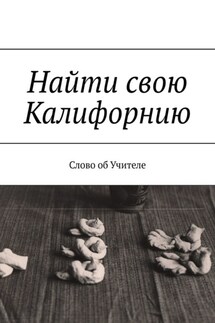Найти свою Калифорнию. Слово об Учителе - страница 2
Шатровский район открывал качественно новый этап его полевой практики. Сейчас он становился сам её организатором и координатором. Намечал основные рабочие направления, делал наброски будущих программ, составлял вопросники, выделяя особо обряды, связанные с рождением, крещением, свадьбой. Параллельно записывал поверья, собирал материалы по народному календарю и заговорам. Всё чаще задумывался о существовании современных жанров народного творчества. И снова возникал вопрос: а существует ли в современном мире народное творчество вообще? Передуманное, пережитое, записывает – всё в недалёком будущем ляжет в основу его первого основополагающего документа «К вопросу об организации и руководству практикой по диалектологии и фольклору в полевых условиях». Документ был напечатан лаборантом кафедры русского языка – Л. Ф. Курбатовой. Но он бесследно исчез. Возможно, он остался в архивах В. П. Тимофеева.
Плодотворный период работы В. П. Тимофеева был связан с Шадринским государственным педагогическим институтом. После защиты кандидатской диссертации он получил должность доцента кафедры русского языка. Читая лекции по языкознанию, организуя спецсеминары, не прерывал связи и с фольклором. При непосредственном его участии на факультете развернулись не только диалектологические экспедиции, работа в которых шла и по сбору традиционного и современного фольклора.
Студенческая фольклорно-диалектологическая экспедиция
1969 год. В. П. Тимофеев организует фольклорно-диалектологическую экспедицию в с. Иковское Каргапольского района (тогда Чашинского). Набирает студенческую группу из шести человек. Входит в группу и А. Н. Соколова (она занималась тогда изучением говоров – будущая тема её диссертации). В Иковской же сохранился говор бывших псковских поселений. Это интересовало и В. П. Тимофеева. Я тоже попросилась в команду. Моя просьба вызвала у В. П. Тимофеева скептическую улыбку. Спросил, зачем хочу с ними поехать, что это не интересно будет, вы не знаете ничего ни об истории села, ни о говоре. Я же знала этот говор: половина посёлка нашего Красного Октября, что невдалеке от ст. Кособродск, были приезжими из Иковской. И их дети учились вместе с нами. Тем более, что потом пришлось работать в Чашинском райкоме комсомола. В моём ведении был школьный отдел, и в Иковскую школу часто приходилось ходить пешком (с. Иковское находилось от Чаши в пяти километрах). На районных пионерских слётах слушала речь школьников из Иковской особенно внимательно. Она отличалась хорошей дикцией, силой голоса и полётностью. Звучащая сторона речи, интонирование, музыкальность – тогда уже вызывали мой интерес. В связи с этим задала несколько вопросов. В. П. Тимофеев ответил на них, но уже смотрел иначе. Я же ценила эти однодневные экспедиции, в которых чувствовалось стремление руководителя донести до студентов самое главное: воспринимать говоры, диалекты, фольклор через историко-социальное осмысление. В результате складывалась довольно ясная картина современного состояния фольклорной традиции края. Для меня это была школа переосмысления и учебной дисциплины – устного народного творчества, его теории познания и, конечно, законов.
Руководитель В. П. Тимофеев
Совсем не ожидала, что в скором времени мне предстояло уже самой стать руководителем фольклорных студенческих экспедиций. Только не могла и подумать, что они будут продолжаться тридцать лет (с 1970 по 2000гг.).Теперь я уже была обязана получить более полные представления об экспедиции: её структуре, как собирается материал, как оформляется и как хранится. Для меня это было важно. А вскоре была получена новая программа по устному народному творчеству, в которой фольклорная и диалектологическая практики становились самостоятельной частью учебного процесса. Надо было готовиться к первой экспедиции. Рассчитывать на поддержку кафедры было нельзя. «Кто ведёт устное народное творчество, тот и руководит фольклорной практикой. Вот и весь мой сказ», – сказал заведующий кафедрой. Само устное народное творчество за учебную дисциплину педагогами не признавалось. И, если кафедра русского языка, готовясь к диалектологической экспедиции, делила студенческую группу на подгруппы в три-пять человек, закрепляя их за педагогами, то моя группа должна была состоять из 18—23 человек. Многому надо было учиться. Всё заранее предусмотреть: маршруты, расквартировку студентов по прибытию в населённый пункт, решить проблемы с питанием, продумать организацию рабочего времени и отдыха студентов, запланировать утренние и вечерние планёрки, проверить студенческие отчёты за день. Члены кафедры успокаивали: «О чём переживаешь. Время-то какое, „золотое“: отдохнёшь и развлечёшься». Слышать этобыло обидно, неприятно: терялся весь июль – целый месяц отпускного времени. За все годы экспедиций эта работа кафедрой никак не признавалась и не компенсировалась. Мне, аспирантке, полагался и отпуск, но его у меня тоже никогда не было. Анна Михайловна Новикова, мой научный руководитель, требовала, чтобы я познакомила заведующего кафедрой с требованиями, предъявляемыми к руководству фольклорной практикой.