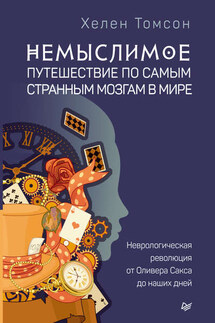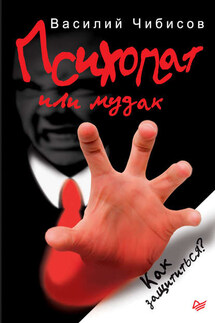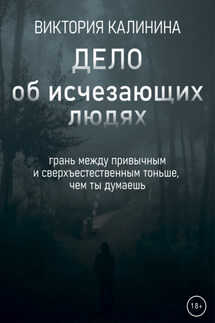Немыслимое: путешествие по самым странным мозгам в мире. Неврологическая революция от Оливера Сакса до наших дней - страница 3
Сегодня мы понимаем, что психическое заболевание, а по сути – любая психическая аномалия, может быть следствием небольших нарушений электрической активности, гормонального дисбаланса, телесных повреждений, опухолей или генетических мутаций. Одни поддаются лечению, другие нет, третьи мы вовсе перестали считать проблемой.
До понимания мозга в целом еще очень и очень далеко. У нас нет удовлетворительного объяснения ни одной из его высших функций – памяти, принятия решений, творчества, сознания. Например, мы можем вызвать галлюцинацию у любого человека с помощью обычного шарика для пинг-понга (позже я покажу как), но знаем мало способов справиться с галлюцинациями, характерными для шизофрении.
Однако мы точно знаем, что мозг со странностями дает исключительный шанс проникнуть в тайны так называемого нормального мозга, открывая удивительные способности, заключенные в каждом из нас и ждущие случая проявиться. Он дает нам понять, что восприятие мира не у всех одинаковое, и буквально навязывает вопрос: так ли нормален наш мозг, как ему хочется, чтобы мы думали?
Окончив обучение по специальности «неврология», я решила стать научным журналистом, посчитав, что это лучший путь узнавать новое о таинственных процессах в мозге и одновременно удовлетворить свою страсть собирания историй разных людей, а также их увлекательного рассказывания. Я получила степень магистра в сфере научной коммуникации в Имперском колледже Лондона и поднялась до новостного редактора журнала «Нью Сайентист».
Сейчас я независимый журналист и работаю для ряда СМИ, в том числе Би-би-си и «Гардиан». И хотя я пишу обо всем, что касается здоровья, меня всегда притягивает тема странного мозга. Я посещаю неврологические конференции, взахлеб читаю научные статьи и складирую у себя заумные медицинские журналы, где хотя бы вскользь упоминаются его исследования. Ничто другое не увлекает меня и вполовину так сильно.
Это непростая работа. Уже не принято типичное для ученых XVIII и XIX веков описание конкретных случаев – яркие истории, в красках живописующие все, что известно о жизни пациентов. Сегодняшнее описание объективно, сухо и безлично. Пациенты названы только по инициалам, черты характеров потеряны, о жизни не говорится ни слова. Предмет неврологии – владелец исследуемого мозга – мало интересует науку, которая развивается вокруг него.
Однажды, засидевшись в офисе допоздна, я наткнулась на статью, не похожую на прочие. В ней было описано нарушение, впервые засвидетельствованное в 1878 году в лесных дебрях штата Мэн. В небольшом поселении лесорубов обнаружили загадочную особенность поведения, изучить которую попросили американского невролога Джорджа Миллера Бирда. Увиденное им казалось невероятным. В этом поселении было несколько человек, которых Бирд позднее назвал «прыгающие французы штата Мэн». Если такому человеку резко дать короткую устную команду, он моментально подчинится и выполнит ее независимо от последствий. Прикажи ему бросить нож, и он бросит. Прикажи плясать – запляшет.
Не менее сильное впечатление, чем само описание расстройства, на меня произвела иллюстрация на второй странице: женщина с поднятой ногой в момент рефлекса. Снимок был сделан у нее дома. Впервые за много лет я увидела фотографию пациента в научной статье, описывающей конкретный случай заболевания.
Бирд провел много недель в лесах и гостиницах, где лесорубы работали в несезонное время, общался с семьями и друзьями, вел записи о взаимоотношениях и интересах. Он попытался узнать их мозг, изучая их жизнь, и получилась захватывающая история.