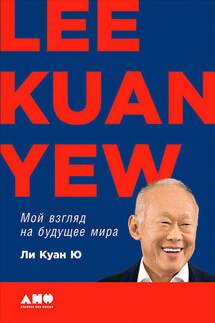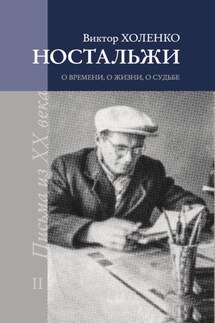Необязательная страна - страница 37
Факты обоснования пробили брешь в восприятии понятия победы. Коль скоро мы отказались от концепции «воевать и вести переговоры» в пользу концепции «вести переговоры во время ухода», перспективы благоприятного исхода начали улетучиваться. Талибы не считали, что мы побеждаем, они полагали, что именно они побеждают. Переговоры не преследовали цель добиться их капитуляции, их задача была обеспечить наш скорейший уход>42. Они могли бы сидеть за столом и затягивать переговоры. У них не было нужды идти на компромисс, чтобы расчистить пути для нашего ухода. Могло бы быть некое ощущение прогресса, талибы стали бы соглашаться рассмотреть какое-то конкретное предложение, а затем пошли бы на минимальную уступку, но за все время уменьшения наших войск на территории страны – и по мере их уменьшения – соотношение сил смещалось бы в пользу Талибана. Все, что им оставалось делать, – это проявить некоторое терпение, держать порох сухим и не сокращать количество задействованных боевых единиц – и они получают в наследство Афганистан. В итоге будут переговоры и небольшое соглашение, но не такое урегулирование, которое закрепило бы мир и стабильность в регионе.
Вопросы прав человека, прав женщин, прав на образование были отложены в сторону. Ничто из этого не представляло, казалось бы, никакого жизненно важного интереса для Америки. Это превратилось в благородные поступки, которые дорого обходятся и которые нелегко поддерживать, и в какой-то степени уже не стоят того, чтобы за них бороться с повстанчеством. Помню, в августе 2010 года журнал «Тайм» поместил на своей обложке страшный снимок молодой афганской женщины по имени Айша, которую выдали замуж, когда ей было 12 лет. Ей отрезали нос в наказание за то, что она сбежала от мужа из-за жестокого обращения с ней его родственников. Подпись под снимком гласила: «Вот что случится, если мы уйдем из Афганистана»>43.
В отделе СПАП мы думали, что разверзнутся небеса. Будет негодование и протест на высшем уровне, в государственном департаменте и Белом доме, и последует подтверждение нашего долга по защите фундаментальных прав в Афганистане. Но ничего такого не произошло – оглушительная тишина. Мы утратили моральные обязательства, которые брали на себя как наш стяг в Афганистане. Сейчас на частных встречах можно услышать высказывания типа: «Даже если в Афганистане вновь разразится гражданская война, нас это не касается, это уже не наше дело». Вашингтон больше не говорит о «хорошей афганской войне», там на слуху другое: «C Афганистаном все в порядке, и с ним пора завязывать».
Казалось, Белый дом видит настоящую выгоду в том, чтобы не переусердствовать. Он был удовлетворен получением скромного успеха в Афганистане и постепенным выводом – строительством афганских сил безопасности, которые все возьмут на себя после ухода американских войск. Проведение потенциально длительного окончательного урегулирования было рискованно с политической точки зрения, и даже если бы оно было реализовано, то вряд ли принесло бы крупные дивиденды в своей собственной стране. Проще было с грехом пополам довести дело до наступления даты ухода. Цель состояла в том, чтобы избавить президента от риска, который неизбежно возникал при осуществлении руководящей роли, которую, по утверждениям Америки, она играет в этом регионе.
Проблема в том, что вроде бы разумные шаги в контексте внутренней политики (и это предположение еще требует проверки, особенно если развалившийся на части Афганистан снова начнет экспортировать страшные вещи) не подходят для разумной внешней политики. Определенно не подходят, если цель состоит в том, чтобы тебя воспринимали в мире серьезно. Регион нуждался в мудрой политике и логичности поступков. Он не получил ни того, ни другого. Сумятице по поводу взлета и падения стратегии ПРОПО сопутствовала нерешительность в отношении примирения.