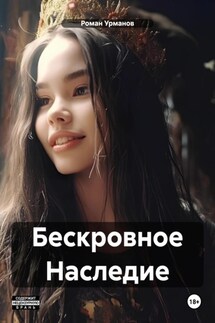Неприкасаемый - страница 34
– Не сюда! – вскричал Дориан, будто на кресле лежал экспонат из Британского музея, и Офелия застыла в испуге. – Вы оттуда ничего не услышите. Садитесь поближе.
Он указал на противоположный конец постели.
Девушка, как заколдованная, повиновалась. Не зная, куда деть глаза, она уставилась на свои руки, а Дориан хрустнул корешком и в раздумьях полистал страницы.
– Что же сегодня вам почитать? Да хотя бы пятую.
Мертвый язык снова ожил, зажурчал ласково и спокойно, и воображение Офелии стало рисовать картины античного Рима, о котором она знала так мало. Голос Рэдклиффа влек ее вглубь веков, и перед ее мысленным взором вырастали сады, где лимоны горят драгоценными сгустками света; возникали очертания улиц, шумных от людской суеты, звенящей поступи легионеров и громыхания колесниц. Наконец, виднелись и форумы, и храмы, и школы, где прогуливаются философы в белых тогах и пурпурных плащах…
Дориан Рэдклифф, сын Альбиона, и сам был теперь римлянин, древний царь, что превращает в золотую отраву все, чего касается голосом или взглядом. Когда он перешел к переводу, Офелия поняла, что слушала вовсе не о рощах и форумах.
Заметив, что девушка, пунцовая от смущения, не знает, куда спрятать глаза, Рэдклифф добродушно рассмеялся.
– А вы чего ожидали, мисс Лейтон? Овидий все же теоретик любви. Впрочем, даже либеральные римляне сочли ее чересчур откровенной. Знаете эту печальную историю? За другое произведение Ars amatoria – «Наука любви» – его изгнали из Рима и сослали на берега Чёрного моря, в край сарматов и гетов, которые ни слова не понимали на его языке. Там он в отчаянии пишет цикл «Скорбных элегий» – прекрасных, но жизнь и без того полна горестей, чтобы предаваться меланхолии из-за стихов.
Закрыв книгу, Рэдклифф одобрительно похлопал по переплету.
– Куда интереснее читать о радостях любви – в них талант Овидия раскрывается особенно ярко, как видите.
С того вечера к уединению с римским поэтом Офелия пристрастилась, как курильщики – к опиуму, и чтение стало их с Рэдклиффом еженощным обрядом. Отпустив Эмилию и дождавшись, когда миссис Карлтон затихнет, мисс Лейтон с видом стыдливой куртизанки принимала опекуна у себя в спальне. Он настоял, чтобы она, дабы не отвлекаться, слушала элегии, уже полулежа в постели, и Офелия повиновалась ему, хотя продолжала исправно кутаться в шаль и поднимать одеяло до подбородка. Граф неизменно садился в изножье постели, читал одну элегию с переводом и каждый раз, когда Офелия уже готова была ему сдаться, покидал ее, даже не тронув. Напротив, он словно бы готовил ее для другого, подчеркнуто демонстрируя, что она не интересна ему ни как жена, ни как любовница.
– Приглядывайтесь к богатым холостякам, мисс Лейтон, не зевайте, – приговаривал он при любом случае. – Не век же мне вас кормить. Чем скорее исполните волю папаши и составите кому-нибудь счастье, тем лучше.
Если раньше такие слова Офелия могла счесть за кокетство – будто Рэдклифф о себе говорит как о партии для нее, – то теперь мысль о браке с ним вызывала у нее удушающий страх. В обществе она видела, как обходителен и игрив он с другими, а на нее если и смотрит одобрительно, то как на вещь вроде бриллиантовой булавки или подходящего к глазам галстука. Представить только, что, если он завладеет ей на законных правах! Тогда некуда будет деться от непонятного, порою недоброго взгляда. И нельзя будет предсказать, что взбредет ему в голову – в словах ли, в делах проявится его потайная жестокость и неприкрытое желание власти?