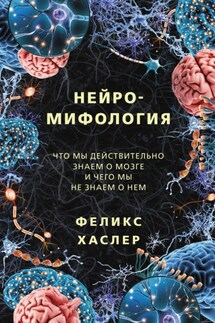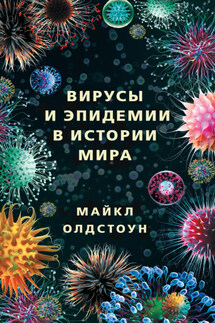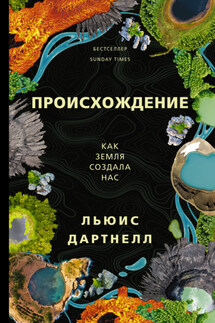Нейромифология. Что мы действительно знаем о мозге и чего мы не знаем о нем - страница 31
Как элемент, определяющий нашу идентичность, мозг уже давно затмил гены. Раньше считалось, что именно они делают нас такими, какие мы есть. Вспомните хотя бы культовый характер изображений двойных спиралей или хромосом, иллюстрирующих «чудо человека». Еще не так давно генетики сообщали, что обнаружили в хромосомах определенные базовые последовательности, которые объясняют наши различия в настроении или способности к контролю побуждений. А также – какие психические заболевания могут нам угрожать из-за наших генетических особенностей.
В нейроэпоху мерилом всех вещей оказался мозг. Теперь все отождествляют себя не с генами, а с мозгом. Homo neurobiologicus не только имеет мозг, он сам есть его мозг. «Быть» своим мозгом – для философа Яна Слаби это «хоровое пение натуралистической нейрофилософии: …субъективный опыт – это не что иное, как пользовательский интерфейс нейрокомпьютера и, следовательно, просто иллюзия пользователя; то, что происходит „на самом деле“, – это нейронные процессы, расшифровать их, объяснить и, при необходимости, оптимизировать, – задача нейронаук и их философских поручителей»[185].
Чтобы обозначить онтологический характер «отождествления себя со своим мозгом», историк науки Фернандо Видаль придумал термин «мозголичность»[186]. «Личность» стала «мозголичностью». В новом понятии отразилось широко распространенное мнение о том, что мозг является единственным органом, который нам нужен, чтобы быть самими собой. Согласно Видалю, ситуация этого особого самоосмысления делает нас «церебральными субъектами»[187]. Раньше действовали личности, теперь – мозги. Обстоятельство, которое приобрело значимость именно в связи с судебно-психиатрической правовой экспертизой.
Культурная гегемония нейронаук привела к глубокому насыщению нашей жизни нейробиологическими объяснительными моделями. Выводы исследователей мозга уже давно нашли путь из лабораторий в обычный мир. Из-за массового присутствия нейробиологических моделей в СМИ должно было измениться и наше самовосприятие – представление о том, кто мы такие на самом деле. В эпоху нейроцентризма модернизированное самоопределение начинается рано. «[Уже] подростки сегодня знают, что такое и как лечить дефицит внимания и гиперактивность. Они воспринимают психомоторное беспокойство и отсутствие концентрации внимания как нейрохимические симптомы, которые они более чем готовы обуздать с помощью стимулирующих средств»[188]. Однако все «мозговые факты», к которым человек прибегает в качестве «церебрального субъекта», не являются объективными, а представляют собой только мнение сообщества ученых в определенное время и в определенном контексте[189].
Те, кого в XXI веке все еще интересует понятие души, рискуют прослыть безнадежно непросвещенными. Душа больше не считается необходимой для объяснения феномена человека. На место концепции души пришли обещания нейронауки уже скоро всесторонне объяснить нашу внутреннюю жизнь благодаря осмыслению структуры и функций мозга.
Философ Томас Метцингер даже указывает на то, что ввиду новых выводов нейронауки «идея о дальнейшем существовании сознательного „я“ после физической смерти становится настолько невероятной, что эмоциональное давление на людей, все еще желающих придерживаться своих традиционных взглядов, может стать тяжело переносимым»